октябрь 2018
Интервью с заслуженным артистом России
Сергеем Зарубиным
Сергеем Зарубиным
Беседу вела театровед, член Союза
театральных деятелей России Татьяна Печегина
Вёрстка Катерины Вендилло
театральных деятелей России Татьяна Печегина
Вёрстка Катерины Вендилло
Летом 1988 года он вышел на сцену «Сатирикона» при еще включенном в зрительном зале свете и шумящей публике. Зал замолчал спустя пятнадцать секунд – а еще через несколько
секунд взмах его руки дал начало музыке. Первым нотам первой музыки первого показа первых, самых легендарных «Служанок» Романа Виктюка. Первый Мсье, о котором театральное сообщество и публика тех лет вспоминает даже сейчас, спустя три десятилетия. Тот, кого в пьесе Жана Жене нет вообще, и кому Роман Виктюк дал безоговорочное право «вести» самый знаменитый из своих спектаклей.
После было еще много ролей и постановок – в родном «Сатириконе» и не только, а в этом году он на один вечер вернул всех в атмосферу той знаменитой премьеры, выйдя уже на сцену Театра Романа Виктюка в той знаменитой роли – окончательно связав воедино все тридцать лет существования феномена «Служанок». И публика замерла, как и тогда, три десятилетия назад…
Артист, балетмейстер, мастер управления театральными энергиями – Сергей Зарубин.
секунд взмах его руки дал начало музыке. Первым нотам первой музыки первого показа первых, самых легендарных «Служанок» Романа Виктюка. Первый Мсье, о котором театральное сообщество и публика тех лет вспоминает даже сейчас, спустя три десятилетия. Тот, кого в пьесе Жана Жене нет вообще, и кому Роман Виктюк дал безоговорочное право «вести» самый знаменитый из своих спектаклей.
После было еще много ролей и постановок – в родном «Сатириконе» и не только, а в этом году он на один вечер вернул всех в атмосферу той знаменитой премьеры, выйдя уже на сцену Театра Романа Виктюка в той знаменитой роли – окончательно связав воедино все тридцать лет существования феномена «Служанок». И публика замерла, как и тогда, три десятилетия назад…
Артист, балетмейстер, мастер управления театральными энергиями – Сергей Зарубин.
“
Виктюк научил нас Театру с большой буквы.
— Почему именно театр?
У меня сохранилось школьное сочинение пятого класса, где написано – хочу быть артистом.
Я ходил в драмкружок в своем родном Ростове-на-Дону, где мы играли патриотические пьесы, а потом ушел в фигурное катание, которое тогда было очень модным. Причем, увлекло это так серьезно, что я вставал в 5 утра, ехал на лед до школы, а после школы возвращался туда опять.
Успехи были солидные – вплоть до того, что, когда к нам на гастроли приехал ленинградский балет на льду, их балетмейстер пригласил меня работать солистом. Родители были против и сказали – до спортивной карьеры получи нормальную профессию! Но я был «двинутый», всё-таки поехал в Ленинград, а там мне сказали – а сходи-ка ты в армию сначала.
Успехи были солидные – вплоть до того, что, когда к нам на гастроли приехал ленинградский балет на льду, их балетмейстер пригласил меня работать солистом. Родители были против и сказали – до спортивной карьеры получи нормальную профессию! Но я был «двинутый», всё-таки поехал в Ленинград, а там мне сказали – а сходи-ка ты в армию сначала.


Сергей Зарубин. Фото Егора Аристакесяна
В армию после 10 класса не хотелось… За углом от дирекции балета был ЛГИТМиК, куда этим же летом я решил поступать. Но мне сказали «до свидания» из-за жуткого ростовского говора, к тому же в тот год набирали такие монстры, как Игорь Владимиров, которым нужны были состоявшиеся взрослые люди, а не пацаны.
Пришлось вернуться в Ростов, где я уже год работал монтировщиком в ТЮЗе и
параллельно помогал двоюродной сестре по художественной самодеятельности в пединституте, где мужчина на сцене – уже шок!
Как мы зажигали! Создали ансамбль «Разлюли малина», я играл цыганку-бандершу, набрали смешных девчонок в «цыганский хор» и работали синхробуфф под фонограмму.
В конце концов, меня поймала декан престижного факультета истории и английского языка и предложила поступать. Ходила легенда, что выпускников готовят в дипкорпус, мы грезили поездками за рубеж – а оказалось, что готовят нас для отправки за рубеж городской черты, в сельскую местность, где не хватало педагогов.
Пришлось вернуться в Ростов, где я уже год работал монтировщиком в ТЮЗе и
параллельно помогал двоюродной сестре по художественной самодеятельности в пединституте, где мужчина на сцене – уже шок!
Как мы зажигали! Создали ансамбль «Разлюли малина», я играл цыганку-бандершу, набрали смешных девчонок в «цыганский хор» и работали синхробуфф под фонограмму.
В конце концов, меня поймала декан престижного факультета истории и английского языка и предложила поступать. Ходила легенда, что выпускников готовят в дипкорпус, мы грезили поездками за рубеж – а оказалось, что готовят нас для отправки за рубеж городской черты, в сельскую местность, где не хватало педагогов.
В ДК первой пятилетки перед спектаклем я показывал Райкину-старшему свои номера, а он так смеялся, что провалил кресло и свалился на пол!
После второго курса я поехал в ЛГИТМиК в третий раз, благополучно поступил, отучился и… пошел в армию! Служил в ансамбле, где продолжилась сценическая жизнь моей цыганки, причем, пел уже живьем с двумя «цыганами» – Олегом Куликовичем и Андреем Ургантом, папой Вани Урганта.
Наша часть стояла около Зимнего дворца, и в штаб приезжали по обмену немецкие офицеры из ГДР – каждый раз устраивали концерт, завершался он моей цыганкой, которая пела по-немецки русский романс «Василёчки». С этими же цыганами мы показывались Константину Райкину в театр, когда мой однокурсник Олег Куликович не мог найти работу.
Костя после показа сказал – всем спасибо, а вы, Сергей, останьтесь. А мне еще полгода служить, а потом идти в мюзик-холл, где меня уже ждали. Костя предложил показаться Аркадию Исааковичу, во что я мало поверил. Но в следующее увольнение меня действительно смотрел Райкин-старший. В ДК первой пятилетки перед спектаклем я показывал ему свои номера, а он так смеялся, что провалил кресло и свалился на пол!
Костя мне тогда сказал – позванивай мне – и по вечерам мне связисты устраивали разговоры с Москвой! Так, после службы в армии, в 1982 году сразу началась моя служба в театре «Сатирикон», где я даже успел поработать в одном спектакле с Аркадием Исааковичем. А через несколько лет к нам пришел Роман Виктюк и начал новую историю этого театра…
Наша часть стояла около Зимнего дворца, и в штаб приезжали по обмену немецкие офицеры из ГДР – каждый раз устраивали концерт, завершался он моей цыганкой, которая пела по-немецки русский романс «Василёчки». С этими же цыганами мы показывались Константину Райкину в театр, когда мой однокурсник Олег Куликович не мог найти работу.
Костя после показа сказал – всем спасибо, а вы, Сергей, останьтесь. А мне еще полгода служить, а потом идти в мюзик-холл, где меня уже ждали. Костя предложил показаться Аркадию Исааковичу, во что я мало поверил. Но в следующее увольнение меня действительно смотрел Райкин-старший. В ДК первой пятилетки перед спектаклем я показывал ему свои номера, а он так смеялся, что провалил кресло и свалился на пол!
Костя мне тогда сказал – позванивай мне – и по вечерам мне связисты устраивали разговоры с Москвой! Так, после службы в армии, в 1982 году сразу началась моя служба в театре «Сатирикон», где я даже успел поработать в одном спектакле с Аркадием Исааковичем. А через несколько лет к нам пришел Роман Виктюк и начал новую историю этого театра…
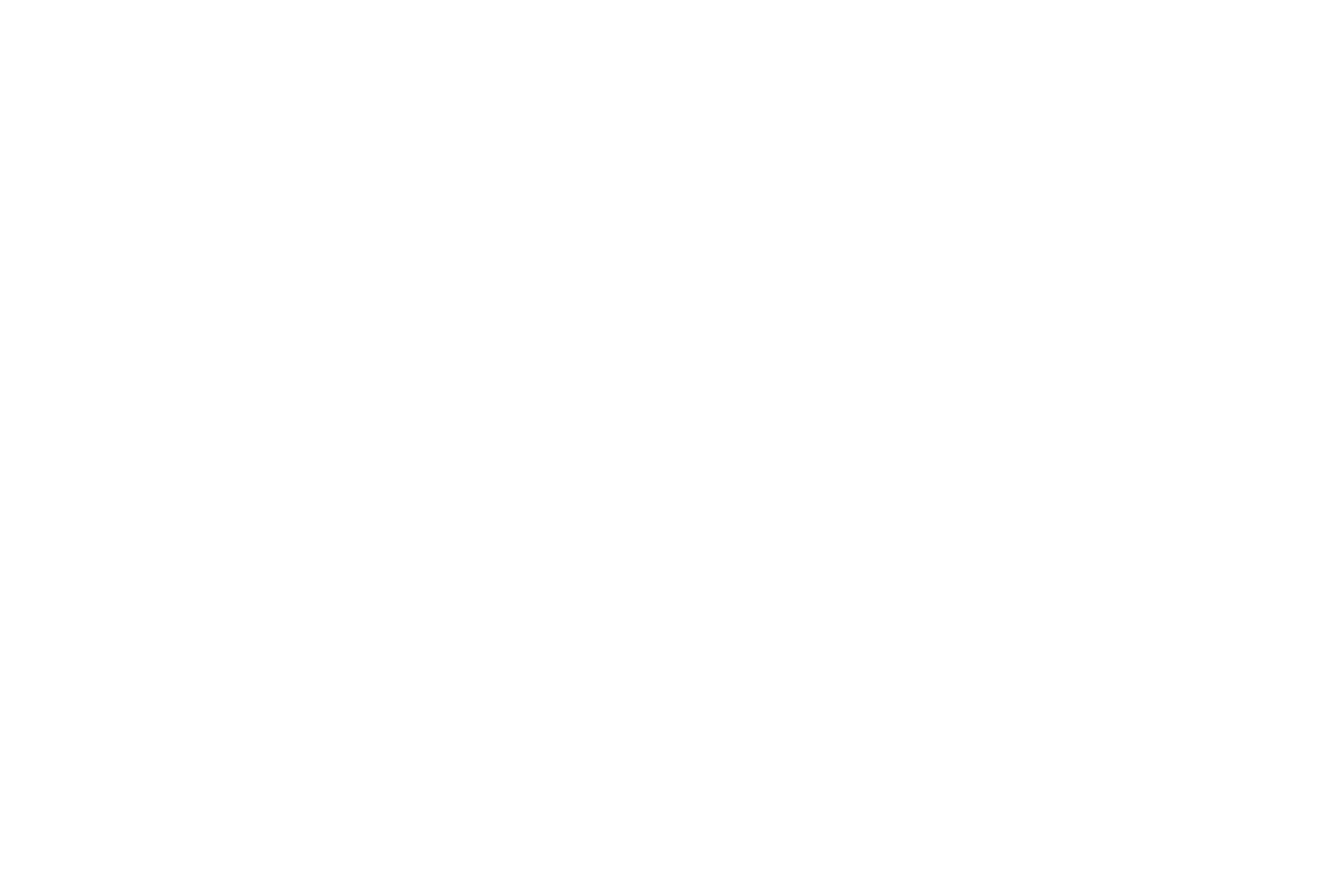
Фото Полины Капица
— Кто привел его в «Сатирикон»?
Когда Виктюк прочитал нам пьесу, мы не поняли ничего, но читал он так, что сидели, раскрыв рот! В конце читки в огромные окна кабинета вдруг врывается яркое солнце, а Виктюк говорит – это Аркадий Исаакович дает нам знак, что все будет хорошо!
Его привела наша добрая фея Алла Коженкова, которая оформляла спектакль Аркадия Исааковича. Когда он умер, в репертуаре осталось два спектакля, а мы остались без папы, без паровоза, который все тащит. Было непонятно, выживет ли, вообще, театр. И вдруг Алла приводит Виктюка, которого мы на тот момент почти не знали. Но она загадочно сказала – вот человек, который…
Так получилось, что впервые он попал на капустник, который я вел в образе той самой цыганки! Кстати, юбка Мсье, которого я потом играл в «Служанках», почти точно повторяет мою тогдашнюю цыганскую – в отличие от юбок остальных персонажей. Видимо, он вдохновился сразу!
В феврале он пришел снова, принес пьесу Жана Жене «Служанки» и уже готовое распределение ролей. Когда он прочитал нам пьесу, мы не поняли ничего, но читал он так, что сидели, раскрыв рот! В конце читки в огромные окна кабинета вдруг врывается яркое солнце, а Виктюк говорит – это Аркадий Исаакович дает нам знак, что все будет хорошо! И ближе к лету мы уже вышли на сцену.
Так получилось, что впервые он попал на капустник, который я вел в образе той самой цыганки! Кстати, юбка Мсье, которого я потом играл в «Служанках», почти точно повторяет мою тогдашнюю цыганскую – в отличие от юбок остальных персонажей. Видимо, он вдохновился сразу!
В феврале он пришел снова, принес пьесу Жана Жене «Служанки» и уже готовое распределение ролей. Когда он прочитал нам пьесу, мы не поняли ничего, но читал он так, что сидели, раскрыв рот! В конце читки в огромные окна кабинета вдруг врывается яркое солнце, а Виктюк говорит – это Аркадий Исаакович дает нам знак, что все будет хорошо! И ближе к лету мы уже вышли на сцену.
Надо понимать, что шел 1988 год – у нас не было ничего! Все костюмы шили из подкладочной ткани, боа Мадам сделали из сетки, выдернув продольные нитки, шубу сшили из некондиции по 30 рублей за мешок – наклеили кусочки меха на ткань.
Весь театр работал, как проклятый, нам нравилось, хотя, мы еще не вполне понимали, что происходит, а Костя вибрировал, понимая, что это спектакль из серии «либо пан, либо пропал». После очередного вечернего спектакля разбиралась декорация, ставились «Служанки» и до пяти утра мы репетировали танцы с Аллой Сигаловой.
Ложились спать, утром приходил Роман, репетировал с ребятами саму пьесу, в час
дня вставал я, мы танцевали финал, а вечером играли очередной репертуарный спектакль. И так три месяца.
Надо понимать, что шел 1988 год – у нас не было ничего! Все костюмы шили из подкладочной ткани, боа Мадам сделали из сетки, выдернув продольные нитки, шубу сшили из некондиции по 30 рублей за мешок – наклеили кусочки меха на ткань. Весила эта шуба, как трехстворчатый шкаф – если ее как следует раскрутить в танце, она могла унести в зал! Балетный станок варили чуть ли ни из водопроводных труб, случайно нашли пластик, который не ломался под ногами, и выстлали им сцену.
Открывали двери на улицу, оттуда шел летний, теплый ветер, а мы танцевали… Стонали, конечно, но Виктюк говорил – вы будете это вспоминать, как самое лучшее время своей жизни. Так и случилось.
Ложились спать, утром приходил Роман, репетировал с ребятами саму пьесу, в час
дня вставал я, мы танцевали финал, а вечером играли очередной репертуарный спектакль. И так три месяца.
Надо понимать, что шел 1988 год – у нас не было ничего! Все костюмы шили из подкладочной ткани, боа Мадам сделали из сетки, выдернув продольные нитки, шубу сшили из некондиции по 30 рублей за мешок – наклеили кусочки меха на ткань. Весила эта шуба, как трехстворчатый шкаф – если ее как следует раскрутить в танце, она могла унести в зал! Балетный станок варили чуть ли ни из водопроводных труб, случайно нашли пластик, который не ломался под ногами, и выстлали им сцену.
Открывали двери на улицу, оттуда шел летний, теплый ветер, а мы танцевали… Стонали, конечно, но Виктюк говорил – вы будете это вспоминать, как самое лучшее время своей жизни. Так и случилось.
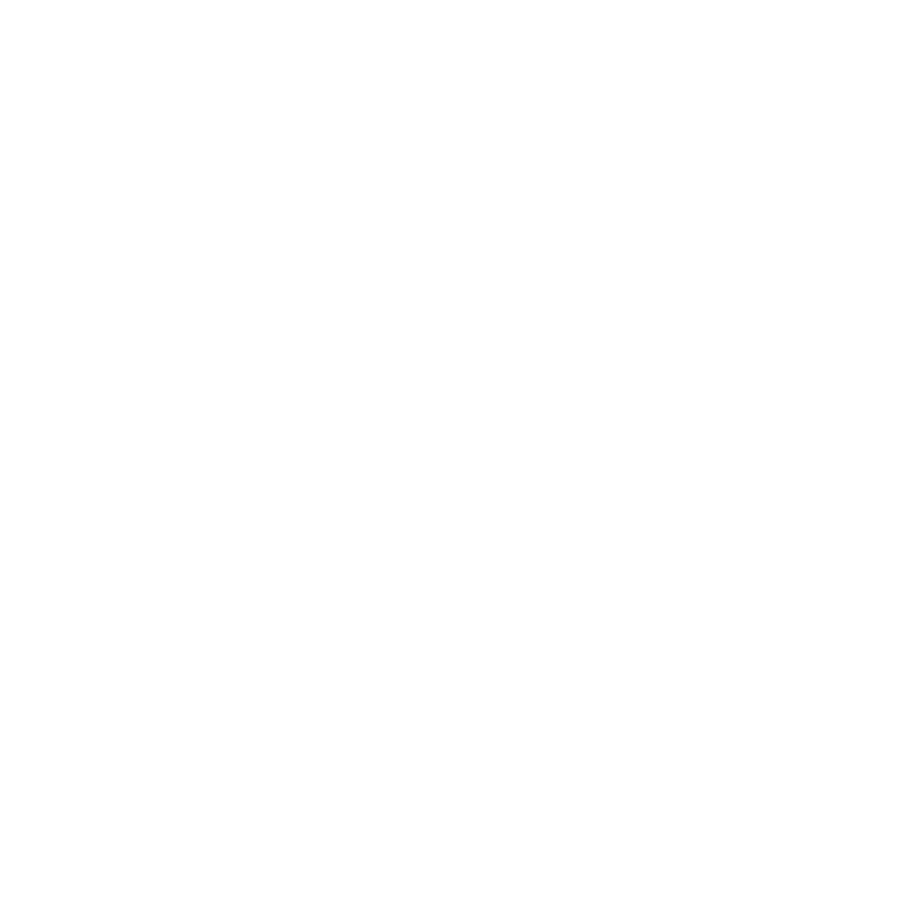
Райкин, понимая свою гигантскую ответственность за театр, был в жутком напряге, однажды во время ночной репетиции сорвался в истерику, убежал в кабинет и закрылся. Мы сидели под дверью, пели песни, совали ему под дверь записочки, предлагали арбузик…
На такой бешеный успех не рассчитывал никто! Мы сыграли два спектакля в августе перед отпуском, особо их не рекламируя, а в сентябре началось сумасшествие! Конная милиция, сломанные двери театра…
Спектакль дал мощный старт многим – и Алле Сигаловой, и Вале Гнеушеву, и Асафу Фараджеву. Да и самому Виктюку тоже. И наш театр сразу взлетел! А для нас репетиции «Служанок» стали сломом понятия, что такое театр. Роман не
объяснял нам, что и как мы должны играть – он никогда этого не делает, но ставит артиста в такие рамки, что тот по-другому существовать не может. Мы пытались сопротивляться, но со временем пришло понимание, что по-другому нельзя.
У меня с ним однажды случился такой скандал, что все выползли из зала, думая, что мы поубиваем друг друга – он требовал, чтобы я надевал туфли на сцене, я орал, что это пошло, он орал мне в ответ. В итоге, бросил микрофон и ушел за кулисы. Там поймал меня и спрашивает – что в буфете сегодня вкусненького, пойдем поедим? И мы вошли в буфет под ручку, чем шокировали всех!
На такой бешеный успех не рассчитывал никто! Мы сыграли два спектакля в августе перед отпуском, особо их не рекламируя, а в сентябре началось сумасшествие! Конная милиция, сломанные двери театра…
Спектакль дал мощный старт многим – и Алле Сигаловой, и Вале Гнеушеву, и Асафу Фараджеву. Да и самому Виктюку тоже. И наш театр сразу взлетел! А для нас репетиции «Служанок» стали сломом понятия, что такое театр. Роман не
объяснял нам, что и как мы должны играть – он никогда этого не делает, но ставит артиста в такие рамки, что тот по-другому существовать не может. Мы пытались сопротивляться, но со временем пришло понимание, что по-другому нельзя.
У меня с ним однажды случился такой скандал, что все выползли из зала, думая, что мы поубиваем друг друга – он требовал, чтобы я надевал туфли на сцене, я орал, что это пошло, он орал мне в ответ. В итоге, бросил микрофон и ушел за кулисы. Там поймал меня и спрашивает – что в буфете сегодня вкусненького, пойдем поедим? И мы вошли в буфет под ручку, чем шокировали всех!
Виктюк дает очень точные «гвоздики», на которые ты потом можешь вешать свою роль.
Он приводил на репетиции людей, казалось бы, посторонних, которые оказывались, в итоге, очень нужны.
Однажды привел модельера-итальянца, который учил нас правильно ходить: ставить ноги, разворачивать плечи, поворачиваться, закидывать на плечо платье и шубу. Несмотря на то, что Роман ничего конкретно не объяснял, он давал нужный настрой рассказами про Серебряный век, метафорами, создавал тот фон, ту структуру, в которой невозможно существовать по-бытовому. Например, когда Мадам уходит и «поет», он говорил Саше Зуеву – ты должен целовать воздух, губы должны быть все время немного вперед, все время в поцелуе. И от этого мгновенно менялась вся пластика!
Был еще один знаковый момент в самом начале. Когда возникла идея
танцевального кабаре в спектакле, Алла Коженкова, которая ходила на все наши
театральные капустники и видела мои номера в образе Лоры Колли – есть такой
гротесковый персонаж среди моих ролей, сказала Виктюку – ты должен
посмотреть Сережины номера. И ночью после очередного спектакля я показывалему цыганку, Лайзу Миннелли и много всего другого. Вдруг он мне кричит: «Снимай верх костюма! Снимай парик!». Я остался в гриме, с голым торсом и в юбке, а он закричал: «Алла, вот Служанки!».
Однажды привел модельера-итальянца, который учил нас правильно ходить: ставить ноги, разворачивать плечи, поворачиваться, закидывать на плечо платье и шубу. Несмотря на то, что Роман ничего конкретно не объяснял, он давал нужный настрой рассказами про Серебряный век, метафорами, создавал тот фон, ту структуру, в которой невозможно существовать по-бытовому. Например, когда Мадам уходит и «поет», он говорил Саше Зуеву – ты должен целовать воздух, губы должны быть все время немного вперед, все время в поцелуе. И от этого мгновенно менялась вся пластика!
Был еще один знаковый момент в самом начале. Когда возникла идея
танцевального кабаре в спектакле, Алла Коженкова, которая ходила на все наши
театральные капустники и видела мои номера в образе Лоры Колли – есть такой
гротесковый персонаж среди моих ролей, сказала Виктюку – ты должен
посмотреть Сережины номера. И ночью после очередного спектакля я показывалему цыганку, Лайзу Миннелли и много всего другого. Вдруг он мне кричит: «Снимай верх костюма! Снимай парик!». Я остался в гриме, с голым торсом и в юбке, а он закричал: «Алла, вот Служанки!».
— 1988 год, в реальной жизни красоты мало, или нет вообще, люди приходили и
видели на сцене то, чего еще могли не понять – нездешнюю эстетику, модерн, непривычную пластику. Как это воспринималось, и не перекрывало ли внешнее
яркое впечатление зрителю страшного смысла пьесы?
видели на сцене то, чего еще могли не понять – нездешнюю эстетику, модерн, непривычную пластику. Как это воспринималось, и не перекрывало ли внешнее
яркое впечатление зрителю страшного смысла пьесы?
Если бы сразу началась пьеса, публика минут 20 бы еще втягивалась в атмосферу и пыталась понять – почему они в юбках, голые по пояс, с раскрашенными лицами?
Мы сами того, что происходило вне театра, просто не замечали, жили как на другой планете. С чем-то сталкивались – сложно было достать сигареты, например. А что касается зрителя – красивый костюм «стреляет» для него ровно
первые 30 секунд. Виктюк очень грамотно выстроил спектакль так, чтобы зритель «наелся» этой красоты за вступительную танцевальную часть, до того, как пойдет пьеса, чтобы принял это и, когда начнется интрига, уже на красоту не отвлекался.
Мы сыграли больше 200 спектаклей, объездили много городов и стран, и везде
принимали фантастически! Причем, разброс был от Англии до Венесуэлы, от
Мексики до Германии. Этот спектакль опосредованно дал мне сделаться балетмейстером – когда через пару лет из театра ушли Александр Зуев и Николай Добрынин, нужны были срочные вводы, впереди была масса гастролей и фестивалей. Костя занялся драматической частью, а я танцами. И, когда в следующем спектакле, мюзикле «Багдадский вор», возник вопрос балетмейстера, Райкин разрешил мне попробовать свои силы. И эта профессия со мной до сих пор – именно благодаря «Служанкам».
первые 30 секунд. Виктюк очень грамотно выстроил спектакль так, чтобы зритель «наелся» этой красоты за вступительную танцевальную часть, до того, как пойдет пьеса, чтобы принял это и, когда начнется интрига, уже на красоту не отвлекался.
Мы сыграли больше 200 спектаклей, объездили много городов и стран, и везде
принимали фантастически! Причем, разброс был от Англии до Венесуэлы, от
Мексики до Германии. Этот спектакль опосредованно дал мне сделаться балетмейстером – когда через пару лет из театра ушли Александр Зуев и Николай Добрынин, нужны были срочные вводы, впереди была масса гастролей и фестивалей. Костя занялся драматической частью, а я танцами. И, когда в следующем спектакле, мюзикле «Багдадский вор», возник вопрос балетмейстера, Райкин разрешил мне попробовать свои силы. И эта профессия со мной до сих пор – именно благодаря «Служанкам».
— «Служанки» изменили вас человечески?
Актер в театре рисует своим телом – это не кино, где можно ограничиться крупными планами.
Конечно, хотя перемена произошла не сразу. Виктюк дал мне понять, что представляет собой актер на сцене, как важен каждый жест и поворот головы. И, когда я позже ставил в спектаклях танцы, то параллельно всегда работал над
пластикой артистов – чтобы не было лишних жестов, суеты.
К сожалению, у нас нет понимания того, насколько важна актерская пластика, по Станиславскому же главное – твой внутренний мир. Мне ближе Михаил Чехов, который говорил, что образ рождается через физику. Этим блестяще владеет Сергей Юрский – стар или молод герой, болен ли артритом, как садится, как смотрит на людей. А биографию героя ты можешь нафантазировать на пять печатных листов, но этого никто не увидит, если выйдешь шкафом с болтающимися руками.
Я не могу смотреть исторические сериалы, где тетки в корсетах и с прическами ходят так, будто они в джинсах, или мужики фрак носят, как футболку! Артист не должен «говорить руками», сначала жест, потом слово, или наоборот, но
никогда не одновременно! Это понимание мне тоже дал Роман Григорьевич.
пластикой артистов – чтобы не было лишних жестов, суеты.
К сожалению, у нас нет понимания того, насколько важна актерская пластика, по Станиславскому же главное – твой внутренний мир. Мне ближе Михаил Чехов, который говорил, что образ рождается через физику. Этим блестяще владеет Сергей Юрский – стар или молод герой, болен ли артритом, как садится, как смотрит на людей. А биографию героя ты можешь нафантазировать на пять печатных листов, но этого никто не увидит, если выйдешь шкафом с болтающимися руками.
Я не могу смотреть исторические сериалы, где тетки в корсетах и с прическами ходят так, будто они в джинсах, или мужики фрак носят, как футболку! Артист не должен «говорить руками», сначала жест, потом слово, или наоборот, но
никогда не одновременно! Это понимание мне тоже дал Роман Григорьевич.
Когда один человек управляет тысячами людей так, как он этого хочет, то это Кашпировский! Это метафизика, высшее умение
и для этого нужна определенная концентрация, которой Виктюк нас научил.
и для этого нужна определенная концентрация, которой Виктюк нас научил.
А еще он научил меня управлять энергиями – буквально. Когда ты входишь на сцену, ты должен гнать перед собой энергетическую волну. Это зависит от настроя – не рассказывать анекдоты за кулисами и сразу выскочить на сцену.
К «Служанкам» мы готовились очень скрупулезно, приходили к 15 часам на танцевальную репетицию, потом был грим, еще одна разминка, а после мы расходились по гримеркам, и до спектакля нас нельзя было трогать. Со вторым звонком собирались вместе, шли на сцену, и начиналось действо. Рома научил нас Театру с большой буквы.
Когда в те годы мы одними из первых поехали на фестивали за границу, то должны были доказать, что наша страна, наш театр – лучшие! Но за твое старание тебе и воздается! В Мексике на спектакле был президент, и в финале нас засыпали гвоздиками – у них это официальные правительственные цветы! А потом вышел президентский оркестр и сыграл нам национальные песни. Я стоял на сцене в слезах… На «Служанках» я выработал для себя установку – на сцену нужно выходить заряженным и гнать перед собой энергетическую волну, чтобы сразу стало понятно – вышел хозяин. Для этого нужно внутреннее основание.
К «Служанкам» мы готовились очень скрупулезно, приходили к 15 часам на танцевальную репетицию, потом был грим, еще одна разминка, а после мы расходились по гримеркам, и до спектакля нас нельзя было трогать. Со вторым звонком собирались вместе, шли на сцену, и начиналось действо. Рома научил нас Театру с большой буквы.
Когда в те годы мы одними из первых поехали на фестивали за границу, то должны были доказать, что наша страна, наш театр – лучшие! Но за твое старание тебе и воздается! В Мексике на спектакле был президент, и в финале нас засыпали гвоздиками – у них это официальные правительственные цветы! А потом вышел президентский оркестр и сыграл нам национальные песни. Я стоял на сцене в слезах… На «Служанках» я выработал для себя установку – на сцену нужно выходить заряженным и гнать перед собой энергетическую волну, чтобы сразу стало понятно – вышел хозяин. Для этого нужно внутреннее основание.
— Танцевальная часть спектакля была продиктована драматургией, как сейчас, или
это был чистый дивертисмент? Что закладывалось в танцы изначально?
это был чистый дивертисмент? Что закладывалось в танцы изначально?
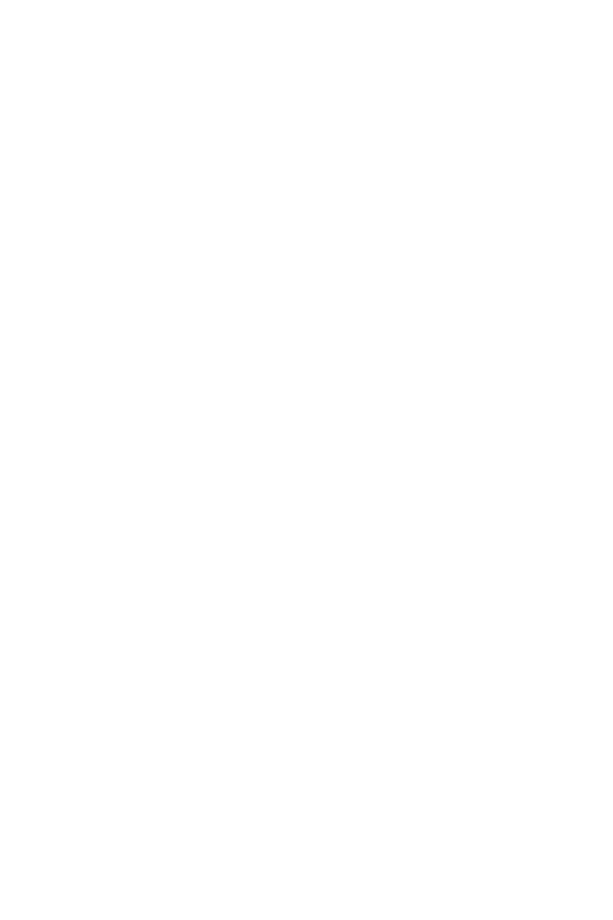
Фото Полины Королевой
В нынешнем варианте «Служанок» в финальных танцах ясно прослеживается продолжение действия драматической части. У нас было наоборот – мы немного стебались над тем, что происходило в пьесе, снимали эмоциональное напряжение, в том, что я забираю у ребят роли, которые раздал в начале, не было трагедии.
Было много номеров с юмором, даже танец а-ля эксгибиционисты, когда Соланж и Клер ходили в плащах, периодически их распахивая. Сейчас же кабаре является прямым продолжением пьесы по пластике. Очень интересно собиралась музыка – все приносили всё, подходящее по теме, было по 5-6 вариантов. Музыку включали в зале на полную громкость, Виктюк, сложив руки на груди, ходил по проходу, слушал и говорил – нет, не подходит. Или, если было точное попадание, - гениально! Так же и репетировал – мог закричать «гений!» и тут же – «безобразно!». И это было без перехода – что безобразно, было непонятно, а он ничего не объяснял, просто кричал – давай еще раз! Нам потом очень не хватало этой подпитки.
Было много номеров с юмором, даже танец а-ля эксгибиционисты, когда Соланж и Клер ходили в плащах, периодически их распахивая. Сейчас же кабаре является прямым продолжением пьесы по пластике. Очень интересно собиралась музыка – все приносили всё, подходящее по теме, было по 5-6 вариантов. Музыку включали в зале на полную громкость, Виктюк, сложив руки на груди, ходил по проходу, слушал и говорил – нет, не подходит. Или, если было точное попадание, - гениально! Так же и репетировал – мог закричать «гений!» и тут же – «безобразно!». И это было без перехода – что безобразно, было непонятно, а он ничего не объяснял, просто кричал – давай еще раз! Нам потом очень не хватало этой подпитки.
— Это был переломный момент в российском театре?
Это было время минимализма, когда ставились бытовые пьесы на пару человек в декорациях «стул-окно», либо комедии. А тут вдруг на фоне всей разрухи – такая красота, завораживающее зрелище! Многие несли это дальше, в жизнь, им это помогало. У меня была поклонница, которая писала мне письма и оставляла на вахте театра: «я вас опять сегодня провожала после «Служанок»». Потом исчезла, а через год пришло письмо – оказалось, что у нее случилось горе, она запила и только воспоминания о моем Мсье помогли ей выкарабкаться. Можно сказать, я спас человека своим искусством.
— Каким бы вам хотелось видеть театр сейчас?
Сейчас в театре есть нехорошая тенденция – дать зрителю по голове толстой
палкой любыми способами.
палкой любыми способами.
Сейчас в театре есть нехорошая тенденция – дать зрителю по голове толстой палкой любыми способами. Может, это такой период, ведь в начале века всегда идет некая ломка – в начале XX века было похожее, а потом в искусстве появились очень яркие фигуры. Самое главное, чтобы из театра не ушла душа – та, что
покоряет, когда смотришь старые фильмы, или записи спектаклей.
Из недавнего меня поразил «Юбилей Ювелира», который я случайно увидел по «Культуре». Сидят на сцене Тенякова и Табаков, их лица крупным планом транслируются на большие экраны – и, просто сидя на месте, они невероятно цепляют! Богомолов, у которого по сцене скачут голые девки и фашисты с автоматами, поставил невероятно тонкий спектакль, который буквально втыкает в тебя гвозди.
Сейчас все кинулись в зрелищность, но за ней не должно уйти то, за чем зрители приходят в театр. Зритель идет в театр не за эффектами, на сцене нужен Человек. Даже если будут эффекты – как у Вячеслава Полунина в «Снежном шоу», или в Цирке Дю Солей – они все равно работают на Человека, и за всем цирком обязательно появляется трепетная нотка.
покоряет, когда смотришь старые фильмы, или записи спектаклей.
Из недавнего меня поразил «Юбилей Ювелира», который я случайно увидел по «Культуре». Сидят на сцене Тенякова и Табаков, их лица крупным планом транслируются на большие экраны – и, просто сидя на месте, они невероятно цепляют! Богомолов, у которого по сцене скачут голые девки и фашисты с автоматами, поставил невероятно тонкий спектакль, который буквально втыкает в тебя гвозди.
Сейчас все кинулись в зрелищность, но за ней не должно уйти то, за чем зрители приходят в театр. Зритель идет в театр не за эффектами, на сцене нужен Человек. Даже если будут эффекты – как у Вячеслава Полунина в «Снежном шоу», или в Цирке Дю Солей – они все равно работают на Человека, и за всем цирком обязательно появляется трепетная нотка.
— Что вдохновляет вас в искусстве?
Пока вдохновляет только музыка. Красивая, со смыслом, с хорошим текстом, если это песня… Когда Нани Брегвадзе поет «Свеча горела на столе», она рисует такую картинку, что очнуться можно лишь в финале песни. Очень люблю Вангелиса. Вдохновляет Петр Ильич Чайковский – он очень трагический композитор, у которого даже в самых апофеозных моментах, в самой мажорной музыке звучит трагическая, щемящая нота. Восхищаюсь тем, как работают с публикой Лайза Миннелли и Барбара Стрейзанд.
Был на концерте Дайаны Росс – она, вообще, ведьмачка! Это было много лет назад, а я до сих пор помню, как центральная часть партера – крутые мужики в красных пиджаках и их любовницы в брильянтах – плясали в проходах! На этом концерте был Виктюк – я сидел на балконе, тогда не мог себе позволить партер – и увидел, как она, спустившись по проходу в зал, идет мимо Виктюка. Вдруг как будто волну поймала, развернулась и бухнулась к нему на колени – и как давай ему петь, волосы ему трепать… Это было нечто!
Был на концерте Дайаны Росс – она, вообще, ведьмачка! Это было много лет назад, а я до сих пор помню, как центральная часть партера – крутые мужики в красных пиджаках и их любовницы в брильянтах – плясали в проходах! На этом концерте был Виктюк – я сидел на балконе, тогда не мог себе позволить партер – и увидел, как она, спустившись по проходу в зал, идет мимо Виктюка. Вдруг как будто волну поймала, развернулась и бухнулась к нему на колени – и как давай ему петь, волосы ему трепать… Это было нечто!
— Как балетмейстер вы авторитарный человек?
С профессиональным балетом я встречаюсь только в Театре Оперетты, и там свои сложности – у танцовщиков, пришедших из классики, есть привычные каноны, а я ставлю не по классике, а по мюзиклу, там совершенно другая пластика. Но в основном я работаю с драматическими артистами – вот здесь нужно понимать индивидуальность каждого, чтобы поставить что-то, близкое ему по органике. Для Люси Гурченко нужно было одно, для Тани Васильевой – другое, для Володи Стеклова – третье. Мне не хотелось их ломать, хотелось встраиваться в их органику. Думаю, что получилось.
Очень редко бывает, что человек совсем не слышит музыку, тогда его невозможно научить танцевать – но таких обычно в актеры и не берут. В танце очень много ассоциативного, поэтому как балетмейстер я не могу просто указать актеру, куда поставить ногу, куда отвести руку. Движений ведь, как и нот, немного – из одного движения я могу сделать гопак, а могу степ – просто
сместив акценты. Поэтому я должен объяснить исполнителю, как и почему делать то или иное движение. Но именно это порой объясняешь очень долго.
Очень редко бывает, что человек совсем не слышит музыку, тогда его невозможно научить танцевать – но таких обычно в актеры и не берут. В танце очень много ассоциативного, поэтому как балетмейстер я не могу просто указать актеру, куда поставить ногу, куда отвести руку. Движений ведь, как и нот, немного – из одного движения я могу сделать гопак, а могу степ – просто
сместив акценты. Поэтому я должен объяснить исполнителю, как и почему делать то или иное движение. Но именно это порой объясняешь очень долго.
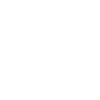
Другие публикации, которые могут быть Вам интересны:
