ноябрь 2018
Интервью с театральным режиссёром
Галиной Полищук
Галиной Полищук
Беседу вела Полина Жукова
Вёрстка Катерины Вендилло
Фото со спектакля «Ганди молчал по субботам»
— Елена Лапина
Портреты Галины — Елена Морозова
Вёрстка Катерины Вендилло
Фото со спектакля «Ганди молчал по субботам»
— Елена Лапина
Портреты Галины — Елена Морозова
Как заставить работать того, кто не хочет, что значит «вежливо закомплексовать», может ли политика не вмешиваться в дела театра, что такое «внутренняя миграция» и почему она хуже цензуры, как не стать в этой жизни зомби?
Об этом и многом другом поговорили с выпускницей режиссерского факультета ГИТИСа, обладательницей Латвийской премии «Дебют в театре», основательницей театра «Театральная обсерватория» и режиссёром спектакля «Ганди молчал по субботам» в театре «У Никитских ворот».
Об этом и многом другом поговорили с выпускницей режиссерского факультета ГИТИСа, обладательницей Латвийской премии «Дебют в театре», основательницей театра «Театральная обсерватория» и режиссёром спектакля «Ганди молчал по субботам» в театре «У Никитских ворот».
— Стюардесса, учитель русского и литературы, режиссёр театра. Для кого-то три жизни, а у Вас — одна. Расскажите, как Вам это удалось?
Наверное, если бы не болезнь, я бы никогда не покинула небо. Полагаю, это было фатальным знаком.
Никогда не говори «никогда». Я часто рассказываю эту историю. В Латвии тоже есть передача «Кто хочет стать миллионером?». Один мужчина, который принимал в ней участие, дошел до вопроса о первой профессии Галины Полищук, решил, что я ни в коем случае не могла бы быть стюардессой, — и… проиграл.
Я всегда хотела быть актрисой, с десятого класса. Но тогда, во времена Советского Союза, Москва, актёрский ВУЗ казались чем-то запредельным, и я не решилась. Я родилась в семье, связанной с небом: папа был авиационным инженером. Профессия стюардессы тогда считалась невероятно популярной, от желающих отбою не было! Несколько лет я с гордостью носила лётную форму, но потом заболела и получила вторую группу инвалидности.
Начался второй этап моей жизни. Ещё работая стюардессой, я поступила на филологический факультет. Родители не считали эту профессию актуальной для современного мира, но поскольку всегда давали мне право свободы выбора, возражать не стали. И я стала жить в мире Пушкина, Булгакова, Лермонтова, писать курсовые работы о «загробных мирах» и «теме смерти в поэзии Цветаевой», мотивы хождения за предел меня всегда привлекали.
Я всегда хотела быть актрисой, с десятого класса. Но тогда, во времена Советского Союза, Москва, актёрский ВУЗ казались чем-то запредельным, и я не решилась. Я родилась в семье, связанной с небом: папа был авиационным инженером. Профессия стюардессы тогда считалась невероятно популярной, от желающих отбою не было! Несколько лет я с гордостью носила лётную форму, но потом заболела и получила вторую группу инвалидности.
Начался второй этап моей жизни. Ещё работая стюардессой, я поступила на филологический факультет. Родители не считали эту профессию актуальной для современного мира, но поскольку всегда давали мне право свободы выбора, возражать не стали. И я стала жить в мире Пушкина, Булгакова, Лермонтова, писать курсовые работы о «загробных мирах» и «теме смерти в поэзии Цветаевой», мотивы хождения за предел меня всегда привлекали.
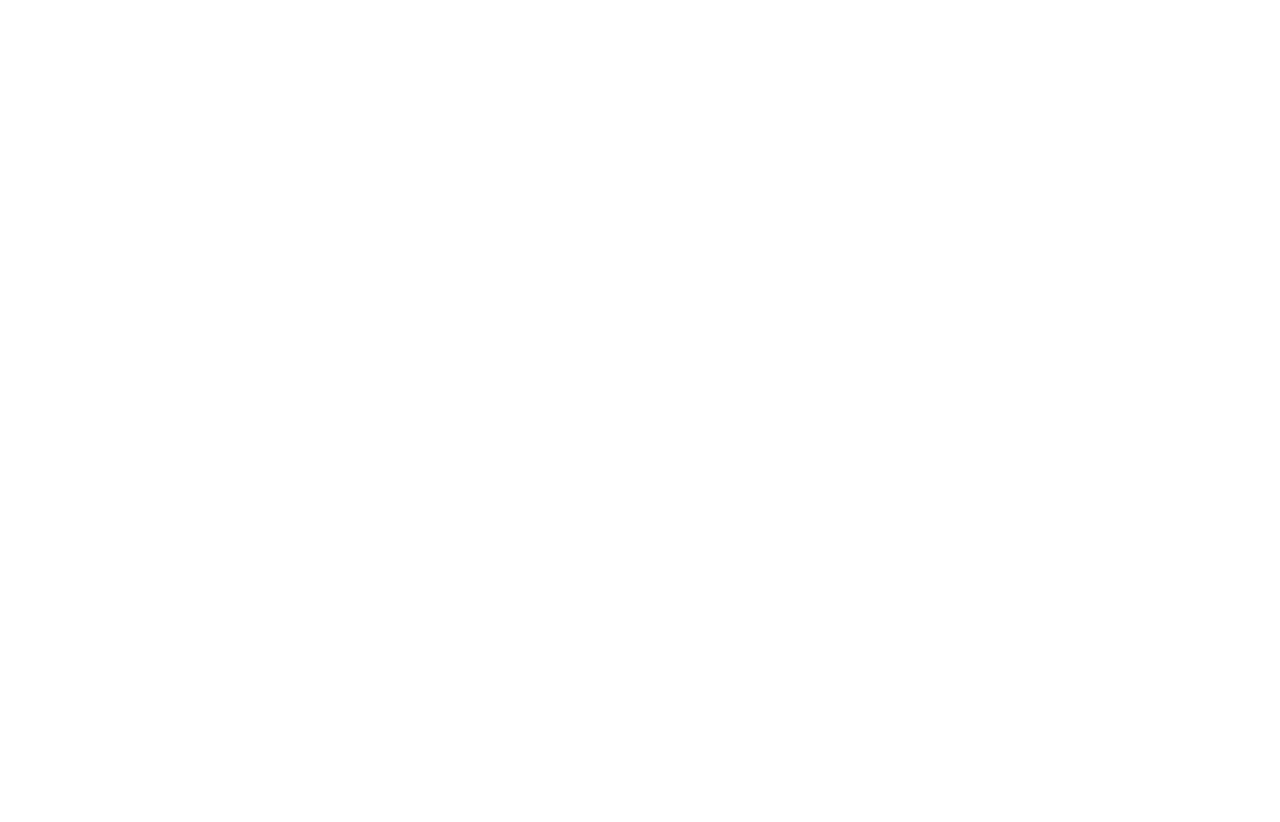
— Другие профессии – это потеря времени для Вас или опыт? Хотели бы Вы сократить
дорогу, если бы была такая возможность?
дорогу, если бы была такая возможность?
На самом деле, каждый изгиб твоей судьбы что-то дает, если ты готов брать, недаром
говорят: «Научить нельзя, можно научиться».
говорят: «Научить нельзя, можно научиться».
Я очень верю в теорию материальности мысли. Один мой знакомый режиссёр, очень талантливый, говорил: «Мечтайте осторожно — мечтам свойственно сбываться. Вот я хотел жить на Арбате, теперь живу там и работаю дворником». Работая стюардессой, больше всего любила момент посадки в родном аэропорту «Рига» и мечтала жить, как все, дома, а не в гостиницах. Моя мечта привела меня к тому, что я получила инвалидность и оказалась дома.
Летать по состоянию здоровья больше было нельзя, а жить на пособие по инвалидности в 22 года казалось малоинтересным. Так судьба привела меня в школу, в прекрасные 11 «А» и «Б», где учились удивительно умные, талантливые, творческие ребята, с ними мы сделали не один школьный спектакль. Эта история окрылила меня как режиссёра и дала понять, что в
жизни нужно что-то менять, необходимо сделать шаг.
Летать по состоянию здоровья больше было нельзя, а жить на пособие по инвалидности в 22 года казалось малоинтересным. Так судьба привела меня в школу, в прекрасные 11 «А» и «Б», где учились удивительно умные, талантливые, творческие ребята, с ними мы сделали не один школьный спектакль. Эта история окрылила меня как режиссёра и дала понять, что в
жизни нужно что-то менять, необходимо сделать шаг.
Одна их моих выпускниц собралась поступать в ГИТИС и позвала меня с собой. Так получилось, что я поехала, а она так и не решилась. На самом деле, каждый изгиб твоей судьбы что-то дает, если ты готов брать, недаром говорят: «Научить нельзя, можно научиться». Мне кажется, что по сути это и определяет, насколько ты готов к прогрессу и развитию.
Кстати, я многому учусь у своей дочери: собранности, умению расставлять приоритеты, упорядочивать свои чувства (и даже иногда мои). Она – врач, для меня это самая важная и гуманная профессия.
Работа стюардессой мне тоже многое дала, это стрессоустойчивые люди, готовые жертвовать собой, спасая других. Нужно быть очень наблюдательным, уметь быстро принимать решения, действовать в команде, находить подход к людям, иногда — к не совсем здоровым людям, ведь сегодня психопатия — одна из самых распространенных болезней в обществе.
Режиссёру также необходимы все эти черты личности: искусство отражает жизнь, а жизнь отражает искусство — перефразирую О. Уайльда. Тебе нужно быть, с одной стороны, внутри жизни, а с другой стороны — вне, как бы наблюдая её. Стрессоустойчивость необходима, когда на тебе лежит ответственность за проект, в котором принимает участие 20 актёров, театр потратил на декорации около 40 тыс. евро, все билеты в зал на 800 мест проданы, режиссёр с микрофоном сидит в зале, службы ждут указаний, но актёр, играющий главную роль, сегодня ушел в запой, и ввести другого за два дня совсем нереально… Здесь ой как нужна скорость принятия решений!
Работа стюардессой мне тоже многое дала, это стрессоустойчивые люди, готовые жертвовать собой, спасая других. Нужно быть очень наблюдательным, уметь быстро принимать решения, действовать в команде, находить подход к людям, иногда — к не совсем здоровым людям, ведь сегодня психопатия — одна из самых распространенных болезней в обществе.
Режиссёру также необходимы все эти черты личности: искусство отражает жизнь, а жизнь отражает искусство — перефразирую О. Уайльда. Тебе нужно быть, с одной стороны, внутри жизни, а с другой стороны — вне, как бы наблюдая её. Стрессоустойчивость необходима, когда на тебе лежит ответственность за проект, в котором принимает участие 20 актёров, театр потратил на декорации около 40 тыс. евро, все билеты в зал на 800 мест проданы, режиссёр с микрофоном сидит в зале, службы ждут указаний, но актёр, играющий главную роль, сегодня ушел в запой, и ввести другого за два дня совсем нереально… Здесь ой как нужна скорость принятия решений!
Во время репетиций приходится сталкиваться с различной ментальностью, разным духовным и умственным развитием, как актёров, так и сотрудников театра из разных служб. И тебе надо с ними договориться, сделать так, чтобы они поняли твой художественный замысел, и говорить иногда приходится на доступном им языке.
В обществе очень много одиноких, неуверенных в себе людей, такие часто
оказываются творческими личностями, идут в театр, а уверенные идут в бизнес.
Ты постоянно сталкиваешься с решением каких-то психологических проблем. Хорошо, когда это обычный «нарциссизм», он иногда идет на благо в нашей профессии. А огромная закомплексованность актёра, неуверенность в себе как в профессионале ведут к постоянной демагогии, а иногда даже к открытой агрессии, и тут встает вопрос, есть ли у меня время и силы на борьбу с этими комплексами или лучше избавиться от такого человека, ибо он может потопить весь проект?
оказываются творческими личностями, идут в театр, а уверенные идут в бизнес.
Ты постоянно сталкиваешься с решением каких-то психологических проблем. Хорошо, когда это обычный «нарциссизм», он иногда идет на благо в нашей профессии. А огромная закомплексованность актёра, неуверенность в себе как в профессионале ведут к постоянной демагогии, а иногда даже к открытой агрессии, и тут встает вопрос, есть ли у меня время и силы на борьбу с этими комплексами или лучше избавиться от такого человека, ибо он может потопить весь проект?
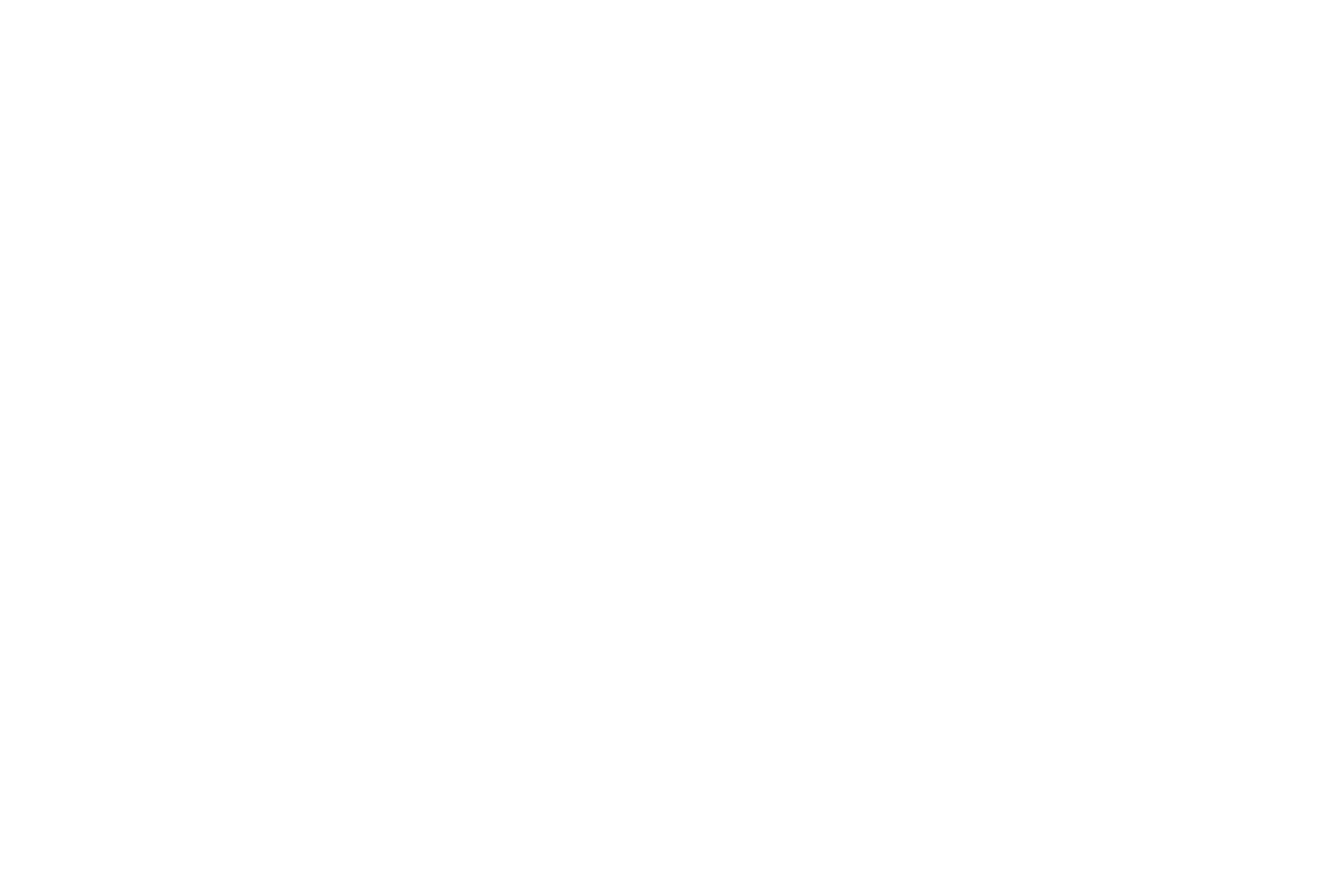
Наша работа — это постоянные схемы, линии, игры: как бездарного спрятать за талантливым, как заставить работать того, кто не хочет, иногда сверх графика? Как из актёра вытащить то, о чем он в себе даже не подозревает? Приходится работать с подсознанием, и тут есть своя методика, подаренная моим педагогом Климом (Владимир Клименко). К сожалению, иногда приходится делать людям очень больно, и у меня самой это забирает колоссальные силы, решаюсь на подобное только тогда, когда вижу и знаю, что будет отдача, что актёр внутренне готов к удару.
— После окончания ГИТИСа Вы поставили первый спектакль в Латвии и на латышском.
При этом, по-латышски Вы тогда почти не говорили. Вам принципиально важно было
это сделать в родной стране?
При этом, по-латышски Вы тогда почти не говорили. Вам принципиально важно было
это сделать в родной стране?
Не могу сказать, что совсем не говорила, в советской Латвии в школах учили латышскому, но у меня совсем нет способностей к изучению языков. Поставить спектакль в Москве не было возможности. Я поступила на курс к Борису
Юхананову, у него тогда не было своего театра, да и отношение классической школы к его творчеству было сложным. Он занимался современным театром, всегда им интересовался, вернее, театральной процессуальностью или вскрытием театрального пространства и возвращением туда метафизических процессов.
Юхананову, у него тогда не было своего театра, да и отношение классической школы к его творчеству было сложным. Он занимался современным театром, всегда им интересовался, вернее, театральной процессуальностью или вскрытием театрального пространства и возвращением туда метафизических процессов.
Образование было потрясающим, но однажды Юхананов сказал такую фразу: «Я никогда вам помогать не буду, талант должен пробиться сам, если он личность». Тогда мы его осуждали, но художник должен понимать, что он берет ответственность за себя, на себя и делает себя самостоятельно. Если у тебя нет на это силы духа, если ты не можешь падать, вставать, утирать кровь и снова падать и вставать, то эта профессия не для тебя.
Многих режиссёров из других театральных школ «вежливо закомплексовали». А из нас растили дерзких и смелых художников, конечно, последователей школы и того театра, которым они занимаются. Мы по-другому уже и не можем. Метафизика художника диктует правила жизни.
И Борис Юрьевич, Клим, Игорь Лысов, наши педагоги, очень помогли с формированием силы духа, воли, личности сталкера-художника. Дальше было и сложно, и легко. Легко — ты же Сталкер, и если кто-то не понимает твой мир — тебе с ним не по пути. А сложно — ты не готов на примирение с застоем, пошлостью, тупостью, театральным невежеством репертуарного театра, такой имперской формы театра времен СССР.
Борис Юрьевич — мощный учитель. Его крик, метафоры внушения, иногда очень резкие, прививали стойкость, дипломный спектакль нашего курса был по пьесе П. Кальдерона «Стойкий принц», хорошая аллегория. Он, с одной стороны, формировал жесткий вкус в профессии, за рамки которого никогда нельзя выходить, с другой стороны, давал свободу в мыслях, идеях, в выборе жанров и методов, в творчестве, развивал твое «художественное» я. Потом уже, когда я состоялась как режиссёр, работала в репертуарных театрах, участвовала в разных театральных фестивалях, конечно, по-прежнему всегда волновалась, когда он, Учитель, смотрел мои спектакли. Но его великое умение слышать и принимать чужой мир, анализировать и правильно направлять закладывалось в нас ещё тогда, в годы учёбы.
Как я попала в латышский театр? Обучение подходило к концу, диплом не давали без спектакля, поставленного в репертуарном театре и принятого худсоветом. И тут опять фатальность – режиссёру Алвису Херманису был интересен Борис Юхананов, яркий процессуалист, создатель совсем другой территории театра. Узнав, что я его ученица, Херманис предложил мне сделать диплом в своем театре. Это была пьеса Клима по В. Набокову «Он, она и Франц», в которой играл известный сейчас и в России, особенно по своему спектаклю «Соня», Гундар Аболиньш.
Для дипломной комиссии нужен был спектакль на русском языке, и Алвис пошел мне на встречу, предложив сделать спектакль для защиты диплома на русском, а к открытию сезона перевести его на латышский. Было решено, что спектакль будут играть в двух языковых версиях.
Борис Юрьевич — мощный учитель. Его крик, метафоры внушения, иногда очень резкие, прививали стойкость, дипломный спектакль нашего курса был по пьесе П. Кальдерона «Стойкий принц», хорошая аллегория. Он, с одной стороны, формировал жесткий вкус в профессии, за рамки которого никогда нельзя выходить, с другой стороны, давал свободу в мыслях, идеях, в выборе жанров и методов, в творчестве, развивал твое «художественное» я. Потом уже, когда я состоялась как режиссёр, работала в репертуарных театрах, участвовала в разных театральных фестивалях, конечно, по-прежнему всегда волновалась, когда он, Учитель, смотрел мои спектакли. Но его великое умение слышать и принимать чужой мир, анализировать и правильно направлять закладывалось в нас ещё тогда, в годы учёбы.
Как я попала в латышский театр? Обучение подходило к концу, диплом не давали без спектакля, поставленного в репертуарном театре и принятого худсоветом. И тут опять фатальность – режиссёру Алвису Херманису был интересен Борис Юхананов, яркий процессуалист, создатель совсем другой территории театра. Узнав, что я его ученица, Херманис предложил мне сделать диплом в своем театре. Это была пьеса Клима по В. Набокову «Он, она и Франц», в которой играл известный сейчас и в России, особенно по своему спектаклю «Соня», Гундар Аболиньш.
Для дипломной комиссии нужен был спектакль на русском языке, и Алвис пошел мне на встречу, предложив сделать спектакль для защиты диплома на русском, а к открытию сезона перевести его на латышский. Было решено, что спектакль будут играть в двух языковых версиях.
Ирония была в том, что русский зритель не доходил до латышского театра, постановка же пользовалась успехом, и латыши раскупали билеты на все спектакли. Складывалась абсурдная ситуация: латышские актёры на русском языке играли перед
латышскими зрителями, с трудом понимавшими текст. Потом в репертуаре оставили только латышскую версию.
латышскими зрителями, с трудом понимавшими текст. Потом в репертуаре оставили только латышскую версию.
— Давайте поговорим о «Театральной обсерватории». Всё это напомнило мне дело
«Седьмой студии» (прим. худ.рук. Кирилл Серебренников). С той лишь разницей, что Вы
просто стали персоной нон грата в Латвии.
«Седьмой студии» (прим. худ.рук. Кирилл Серебренников). С той лишь разницей, что Вы
просто стали персоной нон грата в Латвии.
Узнав мою историю и про моё участие в выборах, он пошутил, что мне повезло, раз я ещё не сижу в тюрьме.
У меня давно такая ассоциация возникла, да и не только у меня. Как-то я в качестве гостя была приглашена в Авиньон – Мекку театрального искусства. Там мы встретились с Жаком Монтеньяком, политическим и культурным деятелем Авиньона. Узнав мою историю и про моё участие в выборах, он пошутил, что мне повезло, раз я ещё не сижу в тюрьме. Ведь всё очень похоже: был министр, который поддерживал и лоббировал наши проекты, ценил то, что я делаю, а также тот международный отклик, который вызывают мои спектакли, поставленные в Латвии. А я помимо работы штатным режиссёром ещё вела в Национальном театре проект «По направлению к школе», знакомящий с векторами того театрального направления, которое мы постигли в ГИТИСе.
Это были открытые репетиции, показы, в рамках предложенной мной актёрской системы существования. Этого министра звали Хелена Демакова – доктор наук, профессор искусствоведения, человек, искренне переживающий за культуру и умеющий ей помочь. Именно благодаря ей мы сегодня имеем здание Национальной Библиотеки, которым Латвия очень гордится, и много других проектов. Она организовывала масштабные международные фестивали,
выставки, биеннале, развивала и продвигала молодых художников и т.д. Но власть поменялась, на пост министра пришёл совершенно беспомощный музыкант, который, словно оловянный солдатик, готов был выполнить любое пожелание, лишь бы самому усидеть в кресле. Он с трепетной самоотдачей принялся уничтожать все то, что было создано до него.
Это были открытые репетиции, показы, в рамках предложенной мной актёрской системы существования. Этого министра звали Хелена Демакова – доктор наук, профессор искусствоведения, человек, искренне переживающий за культуру и умеющий ей помочь. Именно благодаря ей мы сегодня имеем здание Национальной Библиотеки, которым Латвия очень гордится, и много других проектов. Она организовывала масштабные международные фестивали,
выставки, биеннале, развивала и продвигала молодых художников и т.д. Но власть поменялась, на пост министра пришёл совершенно беспомощный музыкант, который, словно оловянный солдатик, готов был выполнить любое пожелание, лишь бы самому усидеть в кресле. Он с трепетной самоотдачей принялся уничтожать все то, что было создано до него.
Для меня это было очень тяжелое время. Подобное хорошо описывает Шапиро в своей книге «Как закрывался занавес». Я замечала, что люди просто переходят на другую сторону улицы, не берут трубки, можно было звонить сто раз, писать смс, но с тобой не хотели общаться… Даже мои актёры стали от меня отмежёвываться, не писали на афишах мое имя, в тайне от меня вывозили мои спектакли на фестивали…
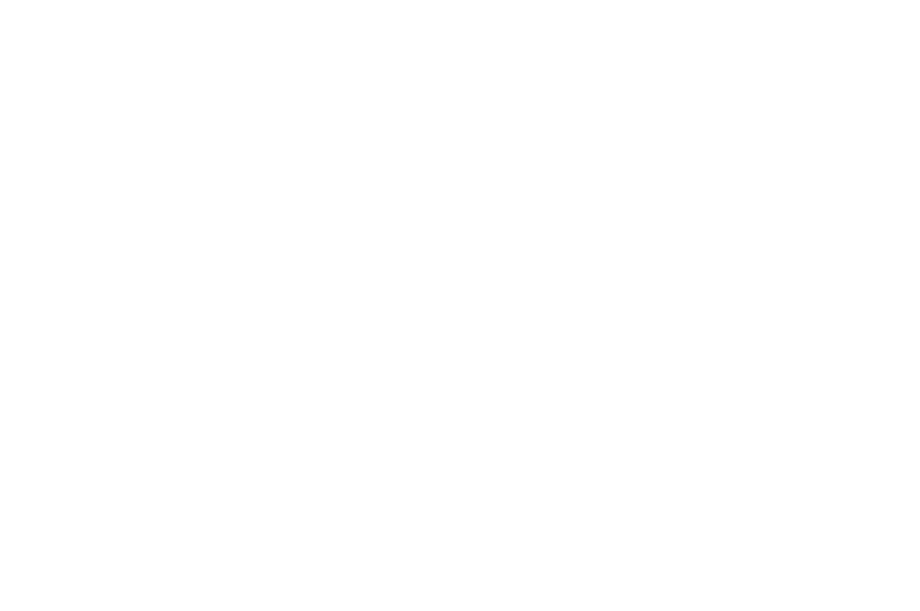
Наверное, это тоже надо было пережить, я слышала о подобном в школе, когда мы изучали эпоху сталинизма, вспомнить хотя бы Ахматову, Пастернака, Булгакова… А теперь в эту достойную компанию попала и я, незабываемый опыт!
С одной стороны, мне было очень больно и неприятно, с другой — надо же прощать человеческий страх. Любой человек уязвим, зависим, и, в конце концов, никто не обязан страдать и рисковать из-за меня карьерой. И все
же были театральные критики, которые пытались бороться за меня. Были и те, кто просто звонил, но писать обо мне не решался, я их понимаю. Всегда буду помнить имена моих защитников, но, как и в случае с Серебрянниковым, ничто не помогало.
Со временем понимаешь, что в жизни возможно все. «Обсерватория» была настолько популярна, что мне казалось невозможным закрытие проекта. Насколько часто мы в жизни ошибаемся: человек, даже, если он Сталкер, легко уничтожаем. Особенно, когда он неугоден системе. Поражение сильно ударило по моим единомышленникам. Депрессия, желание уйти из профессии были почти у всех. Каждый по-своему решал эти проблемы: были и врачи-психотерапевты, и антидепрессанты, и алкоголь; каждый учился жить заново.
С одной стороны, мне было очень больно и неприятно, с другой — надо же прощать человеческий страх. Любой человек уязвим, зависим, и, в конце концов, никто не обязан страдать и рисковать из-за меня карьерой. И все
же были театральные критики, которые пытались бороться за меня. Были и те, кто просто звонил, но писать обо мне не решался, я их понимаю. Всегда буду помнить имена моих защитников, но, как и в случае с Серебрянниковым, ничто не помогало.
Со временем понимаешь, что в жизни возможно все. «Обсерватория» была настолько популярна, что мне казалось невозможным закрытие проекта. Насколько часто мы в жизни ошибаемся: человек, даже, если он Сталкер, легко уничтожаем. Особенно, когда он неугоден системе. Поражение сильно ударило по моим единомышленникам. Депрессия, желание уйти из профессии были почти у всех. Каждый по-своему решал эти проблемы: были и врачи-психотерапевты, и антидепрессанты, и алкоголь; каждый учился жить заново.
Я даже пошла работать в детский сад, мне казалось, что там дети, они не врут, и с ними я точно научусь жить без театра… Но не смогла, в один прекрасный день достала визитки, которые мне давали на фестивалях, и стала искать себе работу, но не в Латвии. В Латвии было очень больно начинать что-то новое. Особенно в Риге. Я была рада новым странам и новым людям. Я с радостью бросалась к ним навстречу, а они распахивали мне объятия...
— Про Вас писали, что Россия спасла Вас после истории с «Обсерваторией». Вы согласны?
Первый спектакль, который я поставила в Каменск-Уральске, попал в лонг-лист «Золотой маски». Мог бы и дальше пройти, но забеременела главная актриса. «Твой «Лодочник» — беременный», — сказал один из критиков…
Россия действительно спасла, потому что денежных запасов почти не оставалось, плюс, я одна растила дочь. Я даже оформляла пособие по безработице. И какое-то время на него жила.
Когда-то мы привозили спектакль «Вей, ветерок» на фестиваль «Золотая маска». На приёме ко мне подошла художественный руководитель Каменск-Уральского театра «Драма номер три» Людмила Матис. Я была окружена критиками, продюсерами, разговаривала с послом, и она просто вложила мне свою визитку в руку. Уже потом Людмила сказала мне, что дала визитную карточку без надежды на звонок. Таких визиток у меня было много… Когда я решила вернуться к режиссуре, начала просто всем писать. Пригласила Эстония, прекрасный директор театра Светлана Янчик, сегодня это моя подруга. В Эстонии я сделала несколько проектов, потом была Литва, много приглашений из России…
Когда-то мы привозили спектакль «Вей, ветерок» на фестиваль «Золотая маска». На приёме ко мне подошла художественный руководитель Каменск-Уральского театра «Драма номер три» Людмила Матис. Я была окружена критиками, продюсерами, разговаривала с послом, и она просто вложила мне свою визитку в руку. Уже потом Людмила сказала мне, что дала визитную карточку без надежды на звонок. Таких визиток у меня было много… Когда я решила вернуться к режиссуре, начала просто всем писать. Пригласила Эстония, прекрасный директор театра Светлана Янчик, сегодня это моя подруга. В Эстонии я сделала несколько проектов, потом была Литва, много приглашений из России…
— Возможна ли такая система, когда политика не вмешивается в дела театра?
К примеру, на мой взгляд, в Германии скорее общественное мнение влияет на театр. То есть, нравственность общества, социальные проблемы, возникающие в нём, безусловно, находят отражение и в театральном процессе. Сегодня там слово «национализм» ругательное. Лояльность в этой стране безгранична, иногда доходит до абсурда. Всё очень четко продумано и организовано, начиная от гримёрной, где актёров ждет сок, кофе, чай, печенье и фрукты, заканчивая всеми параметрами сцены, света и т.д.
Такая организованность театрального процесса очень многое делает легким для художника и вдохновляет. С другой стороны, всё в схемах – ты должен делать так, а не иначе. Это меня пугает, ведь я иногда могу быть несобранной и уж точно эмоционально неуравновешенной, а там этого не прощают.
В Америке и во многих странах Европы — совсем отличная от России система организации театрального дела, там нет репертуарного театра с постоянной труппой, их актёры не понимают, как можно сегодня играть один спектакль, а завтра другой. Труппы заключают договоры с директорами театров. Меня бы такая система устроила.
Такая организованность театрального процесса очень многое делает легким для художника и вдохновляет. С другой стороны, всё в схемах – ты должен делать так, а не иначе. Это меня пугает, ведь я иногда могу быть несобранной и уж точно эмоционально неуравновешенной, а там этого не прощают.
В Америке и во многих странах Европы — совсем отличная от России система организации театрального дела, там нет репертуарного театра с постоянной труппой, их актёры не понимают, как можно сегодня играть один спектакль, а завтра другой. Труппы заключают договоры с директорами театров. Меня бы такая система устроила.
Я люблю работать со своими людьми, а репертуарный театр меня тяготит, мне нелегко работать приглашённым режиссёром, ибо я не рассматриваю театр, как постановку отдельно взятого спектакля. Для меня — это метафизические и сакральные понятия, связанные с общностью людей, твоих единомышленников. Это путь познания группой людей, путь исследования противоречий жизни, поиска ответов, безусловно, через театральный метод.
Такая цензура была в эпоху застоя в СССР, и называлась она внутренняя миграция: ты иммигрировал внутрь себя, для общества тебя не было.
А если говорить о цензуре, политическом влиянии и несвободе художника, — в каждой стране это по-разному. Например, в Латвии возможно поставить любой спектакль. Можно сделать спектакль в защиту русских и про русских или против политической системы, на любую тему, этого никто не запретит. Но всё будет так устроено, что спектакль никто не заметит.
Что лучше? Когда тебя сажают в тюрьму, как Серебренникова, но о тебе все говорят? Или, как в Латвии, тебя никуда не пускают, ты можешь просто исчезнуть, испариться в морском тумане Балтики. Такая цензура была в эпоху застоя в СССР, и называлась она внутренняя миграция: ты иммигрировал внутрь себя, для общества тебя не было. Тебя как бы нет, ты кончился, тебе не дают работать или не печатают, фамилия может мгновенно исчезнуть из всех титров. Всё это уже было пройдено, способы отработаны. Когда мы закрывали «Обсерваторию», решили, что умирать медленно и незаметно не будем.
Что лучше? Когда тебя сажают в тюрьму, как Серебренникова, но о тебе все говорят? Или, как в Латвии, тебя никуда не пускают, ты можешь просто исчезнуть, испариться в морском тумане Балтики. Такая цензура была в эпоху застоя в СССР, и называлась она внутренняя миграция: ты иммигрировал внутрь себя, для общества тебя не было. Тебя как бы нет, ты кончился, тебе не дают работать или не печатают, фамилия может мгновенно исчезнуть из всех титров. Всё это уже было пройдено, способы отработаны. Когда мы закрывали «Обсерваторию», решили, что умирать медленно и незаметно не будем.
— Вы много работаете с верным Вам со времен «Обсерватории» Андрисом Булисом. Он
единственный из прошлого коллектива, с кем Вы продолжаете сотрудничество?
единственный из прошлого коллектива, с кем Вы продолжаете сотрудничество?
Да, мы сделали с ним много проектов и возили на разные фестивали, мне это как художнику необходимо, находить идею, проблему, зачастую социальную, и рассматривать её уже под театральной призмой. Когда я просидела два года дома, то поняла, что единственная радость для меня в жизни – это Фейсбук, там ощущалось творчество, и как говорит его основатель Цукерберг, «чувства», именно с этой целью он и был создан.
Андриса я пригласила ещё и потому, что он последним из всей нашей труппы согласился пойти в штат другого театра. Если актёр идет в штат театра, ты не можешь больше с ним сотрудничать, это нереально: у него репетиции, спектакли, новая религия. На тот момент Андрис был свободен, и мы стали репетировать, хотя он и являлся противником социальных сетей, но
постепенно идея жить и умереть на просторах интернета его затянула.
Это во многом была документальная работа, состоящая из реальных постов, образов, типажей. При подготовке к спектаклю я заходила на страницы умерших людей, читала их посты и посты их друзей уже после смерти… Это всё было больно и странно, с одной стороны, абсурдно, а с другой — такая
новая реальность.
Я очень люблю эти проекты вне театров, они мне необходимы, как кислород, это как раз и есть пространство идей, подаренное когда-то нашим мастером Борисом Юханановым.
Андриса я пригласила ещё и потому, что он последним из всей нашей труппы согласился пойти в штат другого театра. Если актёр идет в штат театра, ты не можешь больше с ним сотрудничать, это нереально: у него репетиции, спектакли, новая религия. На тот момент Андрис был свободен, и мы стали репетировать, хотя он и являлся противником социальных сетей, но
постепенно идея жить и умереть на просторах интернета его затянула.
Это во многом была документальная работа, состоящая из реальных постов, образов, типажей. При подготовке к спектаклю я заходила на страницы умерших людей, читала их посты и посты их друзей уже после смерти… Это всё было больно и странно, с одной стороны, абсурдно, а с другой — такая
новая реальность.
Я очень люблю эти проекты вне театров, они мне необходимы, как кислород, это как раз и есть пространство идей, подаренное когда-то нашим мастером Борисом Юханановым.
В репертуарном театре есть каноны, стиль, куча обстоятельств, которые ты должен учитывать, ты должен вписаться в художественную политику театра, учитывать его аудиторию, актёрские силы, тебе заказывают сделать что-то определенное: драму, мюзикл, классику, комедию. И ты вынужден выполнить заказ. Конечно, ты делаешь всё по-своему и с полной отдачей, но это уже начинает отдавать просто работой, просто ремеслом, кажется, что ты останавливаешься в развитии. Это, как правило, постановки с кучей «но», которые часто тебя художественно обрезают.
Я старалась не занимать никакую позицию. Мы встречались с беженцами, это был такой документально-политический проект, с участием, в качестве персонажей и Меркель, и Орбана. Мы поняли, как всё неоднозначно и для самих европейцев. Спектакль заканчивался вопросом, а не погибнет ли сама Европа, как когда-то Эллада?
А ещё это мое латвийское чувство тактичности и желание не подвести. И я иногда чувствую, что проигрываю, так как не делаю так, как хочу, подстраиваюсь. И ещё актёры… Зарубежные критики на фестивалях не раз говорили мне о том, что «обсерваторские» актёры выработали свой стиль игры и подачи материала. Да, ещё школа Юхананова. Мне приходится очень много сил тратить на переформатирование актёра, зачастую возрождать в нём свободного художника, убивая раба, а это непросто.
Второй спектакль, который мы сделали уже не в «Обсерватории» с Андрисом, это «Квота на жизнь». Латвия выступала против приёма беженцев по квотам Евросоюза, беженцы из Сирии и стран Африки вызывали страх в размеренной и спокойной Латвии своим видом, религией и угрозой терроризма. Неужели мы такие жестокие и не способны поддержать европейскую конвенцию и помочь страждущему? Эта дуальность восприятия вылилась в проект «Квота на жизнь».
Марк Григорьевич Розовский как раз присутствовал на этом фестивале, где также были представлены спектакли Волкострелова, Оливье Пи, Серебрянникова, Коршуноваса, Вайткуса, именно «Квоту» он там и увидел, после спектакли мы познакомились. Марк оценил его форму и человечное высказывание. И мы стали обсуждать, что можем сделать в его театре.
Розовский — великий художник, то, что он сделал, тот путь, который он прошёл, мне очень близок и вызывает во мне восхищение. Я поражена его стойкостью, мудростью, талантом. А ещё мне кажется, что он здесь самый молодой по духу человек. Меня привлекает в его работах смелость, борьба с системой, борьба за свободу. Он очень любит своих актёров, дает им огромные возможности, только нужно уметь этим воспользоваться, проявить инициативу, к сожалению, сегодняшнее поколение не всегда к этому готово. Он говорит, приходите с идеями, я жду. Но многие очень инертны. Осуществить наш проект было
непросто, учитывая финансовые возможности театра. И только благодаря Марку и его сильному желанию, это получилось.
Второй спектакль, который мы сделали уже не в «Обсерватории» с Андрисом, это «Квота на жизнь». Латвия выступала против приёма беженцев по квотам Евросоюза, беженцы из Сирии и стран Африки вызывали страх в размеренной и спокойной Латвии своим видом, религией и угрозой терроризма. Неужели мы такие жестокие и не способны поддержать европейскую конвенцию и помочь страждущему? Эта дуальность восприятия вылилась в проект «Квота на жизнь».
Марк Григорьевич Розовский как раз присутствовал на этом фестивале, где также были представлены спектакли Волкострелова, Оливье Пи, Серебрянникова, Коршуноваса, Вайткуса, именно «Квоту» он там и увидел, после спектакли мы познакомились. Марк оценил его форму и человечное высказывание. И мы стали обсуждать, что можем сделать в его театре.
Розовский — великий художник, то, что он сделал, тот путь, который он прошёл, мне очень близок и вызывает во мне восхищение. Я поражена его стойкостью, мудростью, талантом. А ещё мне кажется, что он здесь самый молодой по духу человек. Меня привлекает в его работах смелость, борьба с системой, борьба за свободу. Он очень любит своих актёров, дает им огромные возможности, только нужно уметь этим воспользоваться, проявить инициативу, к сожалению, сегодняшнее поколение не всегда к этому готово. Он говорит, приходите с идеями, я жду. Но многие очень инертны. Осуществить наш проект было
непросто, учитывая финансовые возможности театра. И только благодаря Марку и его сильному желанию, это получилось.
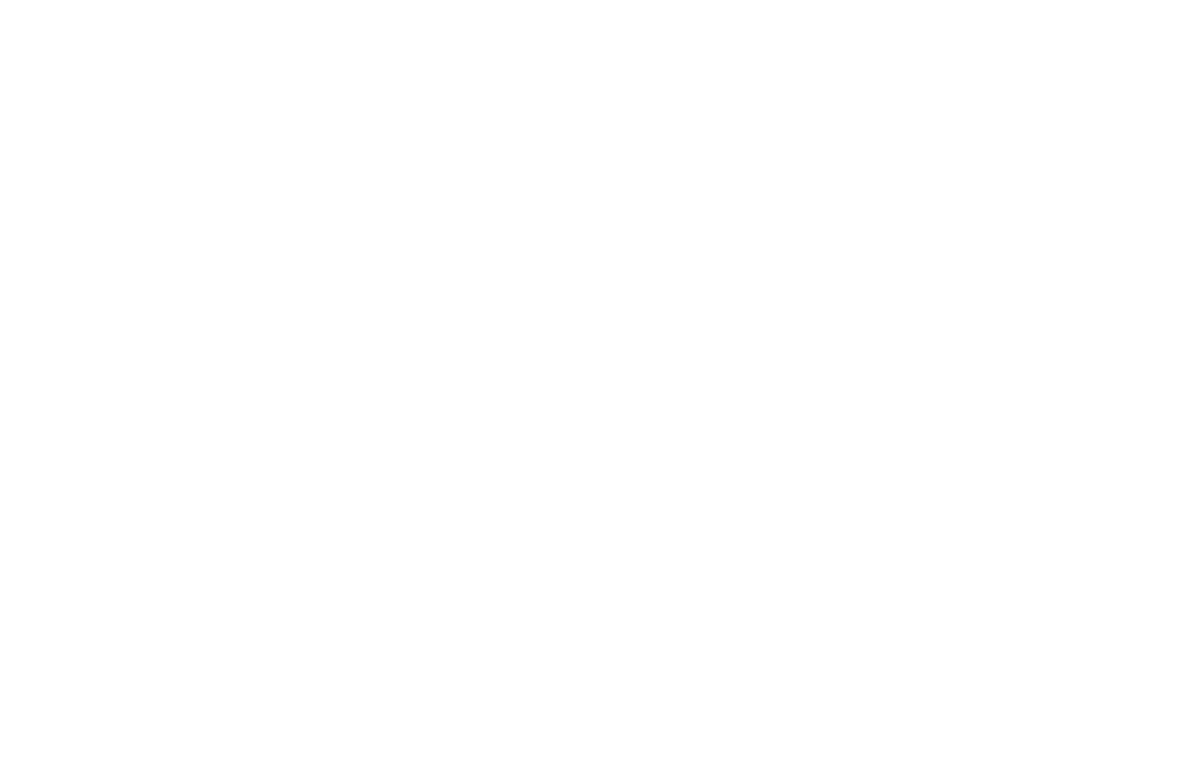
— О чем этот спектакль и для кого?
Москва – многомиллионный город, который может пройти по жизни человека.
Во мне здесь зреет новая тема для спектакля, хочу сделать спектакль о ваших «оранжевых жилетах», но это в будущем. Несмотря на название, эта история не имеет никакого отношения к Ганди. Пьеса о подростке, переживающем сложный период – развод родителей. Меня зацепило в пьесе немного другое, как в этой жизни не стать зомби?
Во мне здесь зреет новая тема для спектакля, хочу сделать спектакль о ваших «оранжевых жилетах», но это в будущем. Несмотря на название, эта история не имеет никакого отношения к Ганди. Пьеса о подростке, переживающем сложный период – развод родителей. Меня зацепило в пьесе немного другое, как в этой жизни не стать зомби?
Зомби — это когда в тебе умирает, иссекается человеческое. Мы так поглощены участием в «крысиных бегах» и всем прочим, что сам Человек и его чувства, мысли, ощущения, эмоции уходят на второй план, ты разучиваешься сопереживать и сострадать. Становишься сам заведенной машиной в борьбе за выживание. В нашем социуме так много лишнего, так много отталкивающего нас друг от друга, звонки, социальные сети, пустая болтовня, зомбоящик... Москва — город, отдающий приоритет материальному. Даже намного сильнее, чем в Европе.
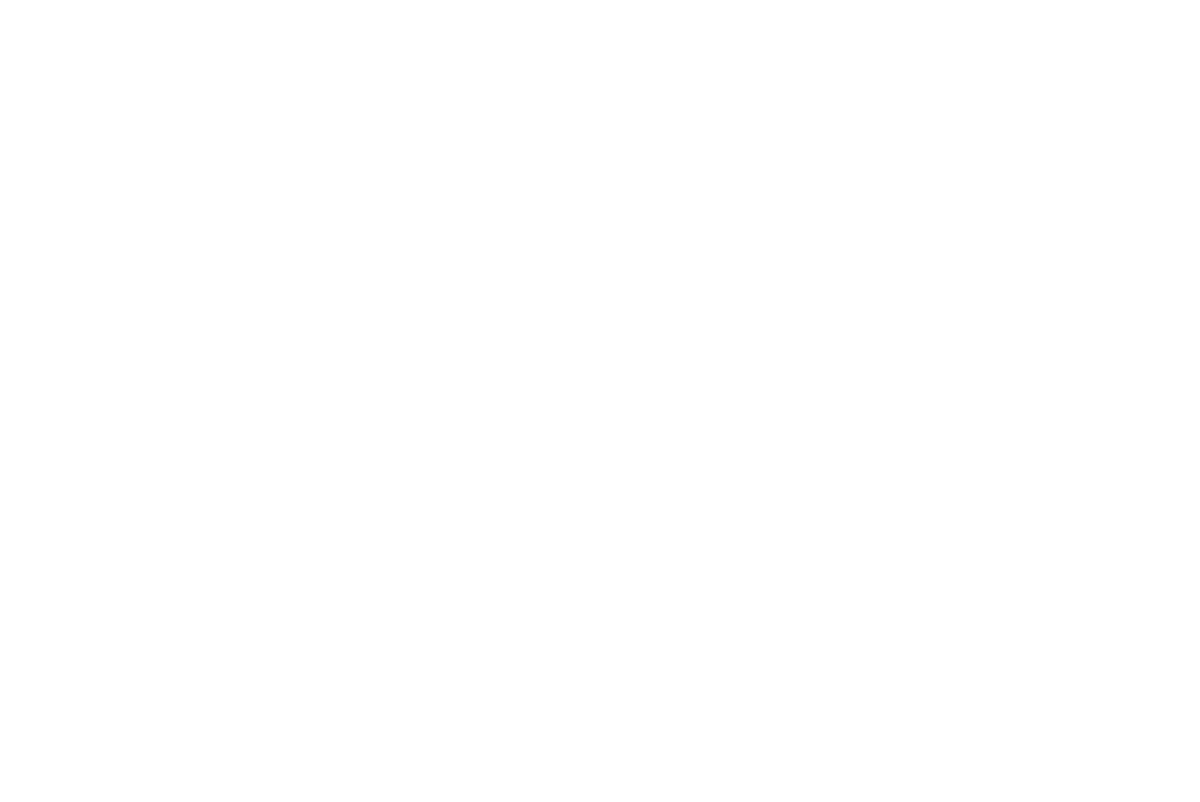
— Вы сказали как-то о работе в Национальном театре Латвии: «Миру неинтересен
режиссёр, который сделал себе художественное обрезание». В России Вам часто
приходится проходить через эту неприятную процедуру?
режиссёр, который сделал себе художественное обрезание». В России Вам часто
приходится проходить через эту неприятную процедуру?
Возможно, мне просто везёт с театрами в последнее время, но тут никто не вмешивался в мой художественный замысел. Для меня сейчас Россия – очень свободная страна. Может быть, сказывается мой настрой: я хочу работать в России, и мне кажется, что здесь нет этих проблем, либо правда везет. Никто меня не цензурирует. Меня всё время пугают, но я пока с этим не столкнулась.
Но есть, к примеру, у меня давняя идея – поставить пьесу Олега Михайлова «Белый шум». И пока ни один театр не согласился её взять. Получается, есть вероятность, что цензура тут происходит на этапе отсмотра.
Но есть, к примеру, у меня давняя идея – поставить пьесу Олега Михайлова «Белый шум». И пока ни один театр не согласился её взять. Получается, есть вероятность, что цензура тут происходит на этапе отсмотра.
История пьесы пересекается с проектом PussyRiot, она неоднозначна: там есть художник, который делает арт-заявление. И ставится вопрос, можно ли такое делать и действительно ли это искренне? Так что политический подтекст у пьесы есть.
— Нужна ли самоцензура в театре? Самоцензура – это хорошо или плохо?
В вопросе самоцензуры режиссёра я вижу только такой ответ: если есть художественное высказывание, которое очень хочется донести, то тут все средства хороши.
Об этом спорят очень много. Режиссёры кричат о том, что цензуры быть не должно. Но посмотрим на это со стороны директоров театра: у них есть зритель, и они его знают, знают, что ему нужно. Могут не поставить какой-то спектакль. Это тоже цензура, но она для театра, а не против него.
В Латвии, например, очень важно, сколько зарабатывает театр. Директор может исходить из того, что его зритель не готов к какой-то теме, не хочет её видеть. Директор не хочет, чтобы театр потерял зрителя и применяет самоцензуру.
В вопросе самоцензуры режиссёра я вижу только такой ответ: если есть художественное высказывание, которое очень хочется донести, то тут все средства хороши. Лично я не приемлю в театре штампов, ибо штампы — это самая большая пошлость; они развращают вкус, умы, усугубляют бездуховность и тупость общества. А по поводу скучных, провокационных, жестоких спектаклей – если в этом есть художественный концепт и режиссёрское высказывание, пожалуйста, мы готовы спорить, не соглашаться, раздражаться
– это и есть жизнь.
В Латвии, например, очень важно, сколько зарабатывает театр. Директор может исходить из того, что его зритель не готов к какой-то теме, не хочет её видеть. Директор не хочет, чтобы театр потерял зрителя и применяет самоцензуру.
В вопросе самоцензуры режиссёра я вижу только такой ответ: если есть художественное высказывание, которое очень хочется донести, то тут все средства хороши. Лично я не приемлю в театре штампов, ибо штампы — это самая большая пошлость; они развращают вкус, умы, усугубляют бездуховность и тупость общества. А по поводу скучных, провокационных, жестоких спектаклей – если в этом есть художественный концепт и режиссёрское высказывание, пожалуйста, мы готовы спорить, не соглашаться, раздражаться
– это и есть жизнь.
— Как Вы думаете, у театра есть национальность?
Спектакль – это работа обеих сторон. Если актёры выложились, а зритель не хотел это принять, то задача спектакля для него не будет выполнена. Здесь должны трудиться обе стороны.
Для чего вообще театр? Режиссёр ищет в нем только одного – понимания. Даже, когда он провоцирует, все равно это поиск понимания. Поэтому я подчёркивала, что ставлю спектакли по важным событиям в моей жизни. Мне хочется, чтобы меня поняли и услышали. Неважно, нравишься ты или нет, ведь вкусы и бекграунд у всех разные. Но если какая-то часть зрителей отреагировала – засмеялась, заплакала, аплодирует, – то режиссёр чувствует бешеное удовлетворение и, главное, — понимание. То есть то, что болит у тебя, болит и у него? Значит, может, и с тобой всё не так уж плохо?
Когда мы привозим спектакль на какой-нибудь фестиваль, то каждый раз появляется страх быть непонятым. Декорации, другой язык, перевод, жесты – как на это отреагирует зритель? Но если режиссёр смог затронуть общечеловеческие темы и проблемы, то это будет ясно каждому. Тем не менее, иногда принципиально учитывать культурные особенности, чтобы идея не провалилась.
К примеру, Алвис Херманис много возил спектакль «Старая жизнь». И актёры рассказывали, что когда они приезжали в другой город, то сразу шли на кладбище, потому что в каждом месте свои традиции. Если не учесть хоть какой-то нюанс в этом отношении в конкретном городе, то зритель не почувствует мысль до конца.
Когда мы привозим спектакль на какой-нибудь фестиваль, то каждый раз появляется страх быть непонятым. Декорации, другой язык, перевод, жесты – как на это отреагирует зритель? Но если режиссёр смог затронуть общечеловеческие темы и проблемы, то это будет ясно каждому. Тем не менее, иногда принципиально учитывать культурные особенности, чтобы идея не провалилась.
К примеру, Алвис Херманис много возил спектакль «Старая жизнь». И актёры рассказывали, что когда они приезжали в другой город, то сразу шли на кладбище, потому что в каждом месте свои традиции. Если не учесть хоть какой-то нюанс в этом отношении в конкретном городе, то зритель не почувствует мысль до конца.
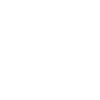
Другие публикации, которые могут быть Вам интересны:
