МАЙ 2015 ГОДА
Интервью с фотографом Киром Эсадовым
Беседу вела: Ксения Пшеничная
Запись текста и редактура: Катерина Вендилло
Запись текста и редактура: Катерина Вендилло
Кир Эсадов - галерейный фотограф, создающий свою крайне субъективную картину мира, мира жестокого, болезненного, но волшебного. Окончил школу имени Родченко, сейчас за его плечами три персональных выставки и участие в более чем 15 групповых. Кир провоцирует нас, но держится обособленно, как монах, не переходя за грань, которая отделяет искусство от реальности.
«А какая разница, живое или нет, все же Эрос и Танатос, две такие всеобъемлющие темы, которые двигают человечество - любовь и смерть»
~

— Как ты пришел к фотографии? Это было детское увлечение или появилось позже?
Оно было детским, да, но переросло, мне захотелось попробовать сделать это серьезно. Кроме того, когда только начинаешь фотографировать, вокруг тебя витает муар романтичного и прекрасного искусства фотографии, который тоже тебя цепляет и толкает на эту дорожку.
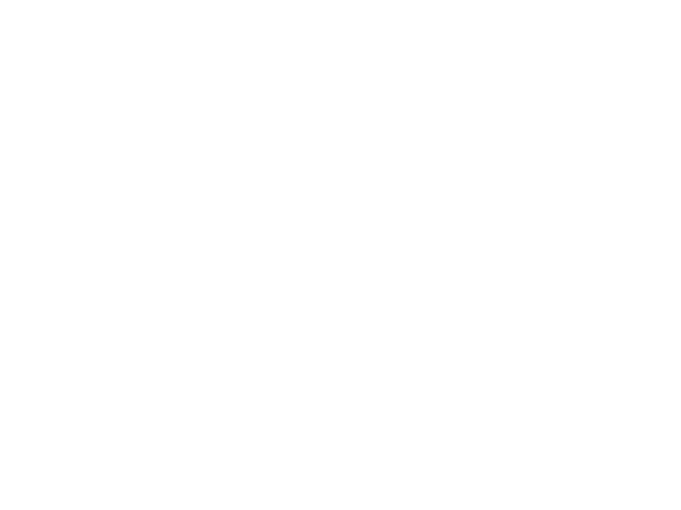
— А как ты попал в Московскую школу фотографии имени Родченко?
Случайно. Я заканчивал факультет социальной педагогики и думал, куда мне податься...
— Кстати, почему после школы ты выбрал именно это направление?
Просто некуда было больше поступать. Там много таких людей, как я - никто не представлял, что такое социальная педагогика. Я думал, продолжить доучиваться там же, следующее образование получать, или идти в фотографию. Подал документы и туда, и туда, решил посмотреть, куда поступлю быстрее. И первой оказалась школа Родченко. Я её совершенно случайно увидел в буклете одной МДФ-овской выставки. Быстро собрал отвратительное портфолио...
— Почему отвратительное?
Потому что наивное, детское и неумелое. Отражения в лужах, ангелочки, полуголые девочки в белых простынях, стены с граффити фоном, то есть совсем первые и осторожные работы. Ира Меглинская, моя мастер, решила за это взяться.
— Ты сразу к ней попал?
Да, мы не выбирали, к кому идти. Ещё до объявления результатов были очень короткие видео-интервью с мастерами, и я подумал, что очень сильно к ней хочу. И через неделю оказалось, что она меня сама выбрала.
— Были сложности в учебе или все шло как по маслу?
Наверное, были, у всех же они бывают. Но такого, когда кажется, что ничего не получается, сейчас я немедленно брошу и буду заниматься чем-то еще — не было.
— Я видела некоторые твои дипломные работы. Как так получилось, что ты перешел от ангелочков к теме смерти?
А какая разница, живое или нет, все же Эрос и Танатос, две такие всеобъемлющие темы, которые двигают человечество - любовь и смерть.
— А тебе какая сторона ближе?
Я не двигаюсь ни в одну из них, мне кажется, они обе важны, их очень сложно разделить. Вообще в фотографии есть один очень важный момент: автор должен определиться, какой мир он показывает в своих работах — ужасный или прекрасный? Я постоянно метался, Меглинская все время меня спрашивала, ужасен или прекрасен мой мир, в итоге я до сих пор не знаю, и то, и другое. И ангелочки, и смерть могут вместе нормально существовать, по крайней мере в моем фотографическом пространстве.
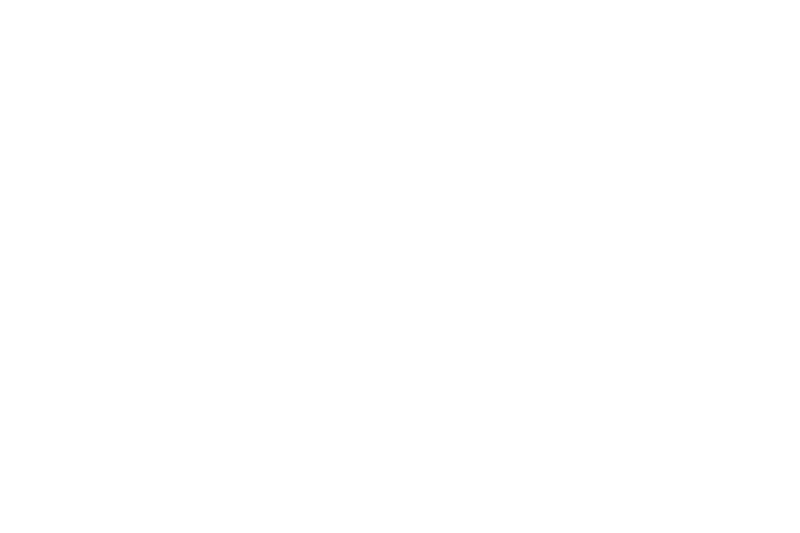
«Вообще в фотографии есть один очень важный момент: автор должен определиться, какой мир он показывает в своих работах — ужасный или прекрасный?»
— В том периоде, где были ангелочки и отражения, ты выглядел совершенно иначе. Миловидный юноша. А сейчас — довольно серьезный, брутальный мужчина. Почему произошла такая метаморфоза?
Ну мне все-таки 27, мне положено так выглядеть. Как только я закончил социальную педагогику, я сразу побрился налысо и поступил в школу Родченко, моё становление было реактивным. А есть люди, которые до сих пор меня воспринимают милым мальчиком. Мне рассказывали, как чья-то знакомая зашла на сайт родченко, увидела там мою старую фотку с длинными волосами и говорит: «ну надо же, какой молодой человек, совсем за собой не следит, все отдает в искусство! Ему не важно, как он выглядит. Главное для него - творчество».
— А это так, главное — это творчество?
Нет. Как может быть какая-то одна главная вещь в жизни? Жизнь состоит из очень многого.
— Как проходит твой день? Всегда по-разному или есть расписание?
У меня есть одна обязательная режимная вещь: я встаю в 10 утра. Выпью чай, покурю, а дальше сажусь за какую-то работу.
— Расскажи о проектах, которые ведешь сейчас или недавно закончил.
У меня накопилось определенное количество фотографий, которые нужно было объединить в одну серию и выпустить в свет. Два года назад я начал фотографировать слонов, сделал с ними серию, но за два года так её и не выпустил. Я постоянно фотографировал этих слонов, они мне замылили глаза, и в какой-то момент я подумал, что надо отвлечься и пофотографировать бабушек. Помимо слонов и бабушек, у меня накопились какие-то другие вещи, со встреч и вечеринок, случайные обрывки которых тоже шли в рюкзачок, то есть не публиковались. И вуаля, буквально на днях я завершил эту работу, даже написал к ним какие-то ужасные сопроводительные тексты.
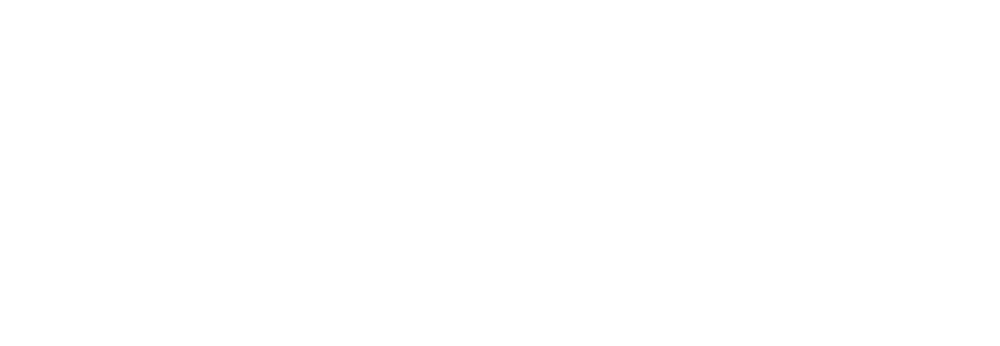
— Почему ужасные?
Все фотографические тексты ужасные, потому что они написаны непонятно о чем, часто неумело, хотя бывает и умными словами. Фотографы очень редко обладают литературными данными, потому что они заняты фотографией. Но так как современный мир по какой-то причине требует от фотографа написать стейтмент и вообще осмыслять свою речь, хотя, казалось бы, зачем, в итоге мы имеем то, что имеем. Хотя по моим текстам сразу можно понять, какие стихи я читал в тот момент. Важно отметить, что я концептуальные тексты не пишу, я пишу эпистолярные. Хотя в целом я не люблю писать тексты, была бы моя воля, я бы их отменил вообще.
— Где можно увидеть эти два проекта?
Пока нигде. Я выложу их на сайт, выставляться сейчас особо негде.
— Почему? Что ты думаешь о выставочных процессах вообще?
По-моему, с фотографией сейчас всё если не плохо, то просто скучно, потому что как самостоятельный вид искусства фотография стала не в почете. Мы же вошли в современное искусство, контемпорари арт, нам нужно делать концептуальные вещи, нужно продвигать идею, а в каком она виде, хоть в тексте, хоть в перформансе — это не важно, современный художник не обращает внимания, какими средствами он пользуется. И так как это тотально заполонило выставочные пространства, то для фотографии и для каких-то других вещей остается очень мало места, только если в Пушкинском или в том же Мультимедиа Арт Музее. Это не хорошо и не плохо, просто так вышло. В последние два года в России с галереями все стало очень плохо...
— Почему так?
У нас вообще арт-рынок очень плохо строился, не было того количества средств, которые хотелось бы в него вложить, чтобы все нормально заработало. Потом странным образом всякие Винзаводы и прочие стали поднимать цены, и галерейщики переехали в другие места, стали более отдаленными, им стало чуть сложнее жить. Ну а сейчас, за последние два года, мне кажется, мы все видим изменения в нашей стране, в умах и сердцах, поэтому естественно, что многие уезжают не хотят тратить деньги на эти бесполезные предметы искусства. Ну вот кто в здравом уме отдаст 700 евро за фотографию, это же бред.
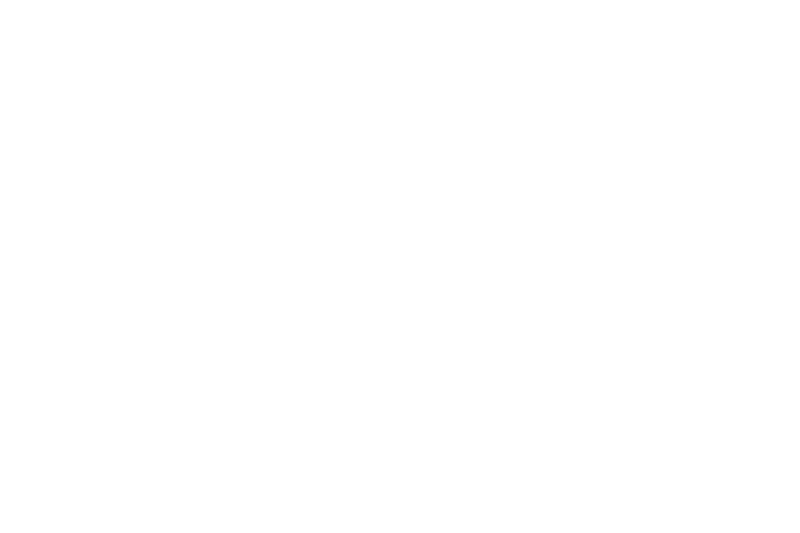
— Тот, кто коллекционирует. Как ты думаешь, это естественный ход событий?
Конечно, естественный. Я к нему никак не отношусь, я им не занимаюсь и не интересуюсь, что совершенно не модно сейчас. Хотя я всегда с радостью хожу в Гараж на открытие, мне интересно смотреть, что Гараж придумал, но вот все остальное меня не притягивает. Иногда бываю на открытиях в других местах, слышу, о чем люди говорят, и это, конечно, расстраивает.
— А о чем они говорят?
Они разговаривают так, будто они прямо сейчас, в своей речи, делают это самое современное искусство. Это очень странно слушать, понимаешь, насколько ты вообще далеко от этих людей, и что тебя с твоими воззрениями никогда не примут в этот клуб.
— То есть это некоторая профанация?
Сложно сказать, потому что я ко всей этой истории с современным искусством очень скептически отношусь. Но с другой стороны все современные художники скептически относятся к фотографии, а некоторые, в частности, ко мне. Кто из нас прав, мы никогда не узнаем.
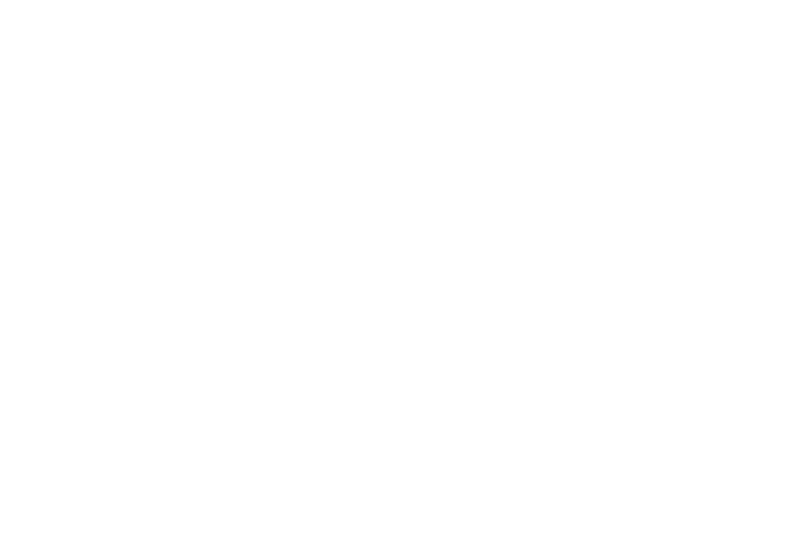
— На что ты снимаешь?
На цифровую камеру. То, что сейчас мои фотографии выглядят, как аналоговые — это благодаря тому, что я очень долго занимался аналоговой фотографией. Недавно напечатал одну фотографию для продажи. Но если ты за 4 года напечатал одну, нельзя сказать, что ты начал заниматься аналоговой фотографией.
— Не теряется рукотворная магия?
Нет, это как играть на пианино, это из тебя не выжечь. Важно то, какие смыслы ты хочешь вложить.
— Какие смыслы вложены в слонов?
Танатос и совсем чуть-чуть Эроса. У меня есть одна практически порнографическая серия, но там Эрос-Эрос. Она получилась, когда я связался с порно-компанией.
«Вдохновение — это внутренний процесс, который не зависит от происходящего снаружи, он просто рождается. Вдохновение — это драйв»
— Я наблюдаю в западных выставках и журналах, что чаще всего эксплуатируется тема насилия, секса и других таких же вещей.
Эта тема эксплуатируется 2000 лет. Это бессменные темы, которые всегда были, будут нас двигать, интересовать и волновать. Прекрасного мы видим много, а гадкое — это наше внутреннее, давнее, извечное желание. У каждого из нас это есть, объем зависит от того, кто на чем рос.
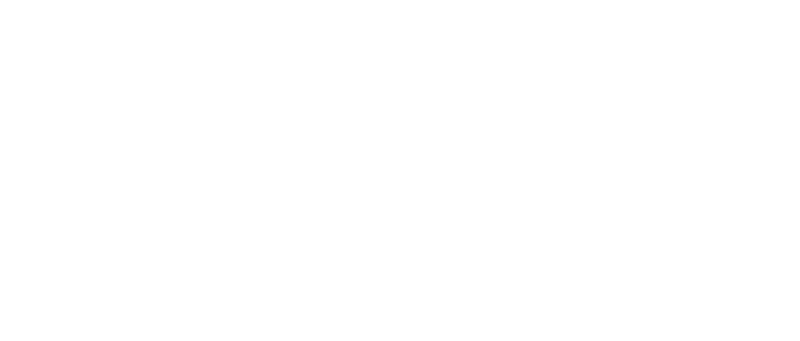
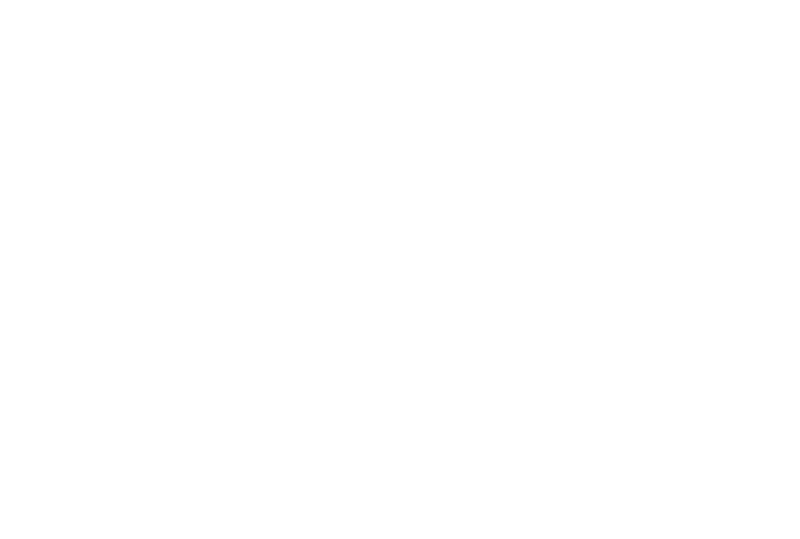
— Есть ли какое-то детское впечатление, которое на тебя повлияло?
Если только цирк, я вырос в цирковой семье. Я впитывал все эти пляски, животных и так далее, но вид изнутри — это так же как смотреть издалека на фотографию. Все это в романтическом муаре, но когда ты в это погружаешься, оказывается, что это серьезный труд, в котором много бытового и обыденного. Сам я не хотел идти по этой линии. Когда мне было 5 лет, а моему старшему брату 10, мы тренировали самый простой гимнастический номер: встать руками на ноги. Это, наверное, единственная в нашей жизни попытка приобщиться к цирковому миру. Когда я попал в педагогику, мне хотелось сеять разумное, доброе и вечное, но в 17 лет ты ещё плохо понимаешь, как его сеять. В тот момент у меня была единственная мысль — лишь бы не на математику.
— А чем, кстати, занимается социальный педагог?
Он занимается этим таинственным и прекрасным словом «социализация». То есть социализировать того, кто не социализирован, или сделать так, чтобы социализированный таковым и оставался в любом возрасте.
— Что было самым интересным в этой учебе?
Ты можешь прекрасно знать композицию, но если у тебя нет четкого месседжа для человечества, который ты хочешь оставить, заниматься этим бесполезно.
Все было интересно, психология, социальная психология, педагогика. Большинство людей, учившихся в школе Родченко, имели какое-то основательное арт-образование, они представляли себе, что такое арт-мир. А я нет, я представлял с точки зрения соц. психологии, почему человек вообще занимается искусством, что такое искусство с точки зрения психиатрии. Что такое творчество с точки зрения образования нейронов в мозгу. Мое представление об арт-мире было исключительно биологическим — перцепция, как двигается по картинке глаз, как влияют цвета. Потом от этого пришлось отказаться, потому что арт-мир не терпит таких знаний. Это как в стихах: стихи могут писать математики, потому что они точно знают количество слогов, а ещё те, кто не знаком с математикой, а просто пишет, потому что пишется. Они ничего не знаю о слогах, но в них рождаются какие-то внутренние смыслы, которые они хотят передать. Точно так же в фотографии: ты можешь прекрасно знать композицию, но если у тебя нет четкого месседжа для человечества, который ты хочешь оставить, заниматься этим бесполезно.
— То есть получаются две стороны медали: биологическая, которая дает возможность понимать восприятие человека, и художественная. Их объединение — оно помогает или наоборот мешает в работе?
Оно не мешает точно. Это единственное, чем я могу пользоваться. Многие люди говорят: «он в своих работах высказался, выстрадал их», а на самом деле нет, просто умело знает, как подать и как рассказать определенную историю.
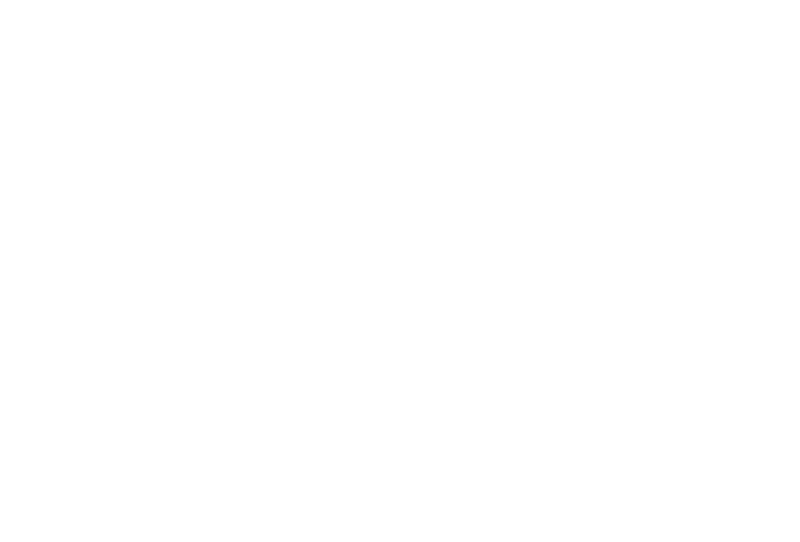
— В этом есть момент манипуляции художника аудиторией?
Конечно, любой художник манипулирует, все искусство — это манипуляция.
— В своем творчестве ты обогащаешься или наоборот отдаешь?
Сложный вопрос. С одной стороны хочется избавиться, а с другой я же всё записываю на бумаге, поэтому оно в итоге со мной остается. Но я никогда не пересматриваю свои старые фотографии, поэтому наверное все-таки избавляюсь.
— То есть пока нельзя проследить линию роста?
Ещё слишком мало времени прошло, ещё нечего прослеживать, 6 лет всего. Каркас работ ещё не сложился.
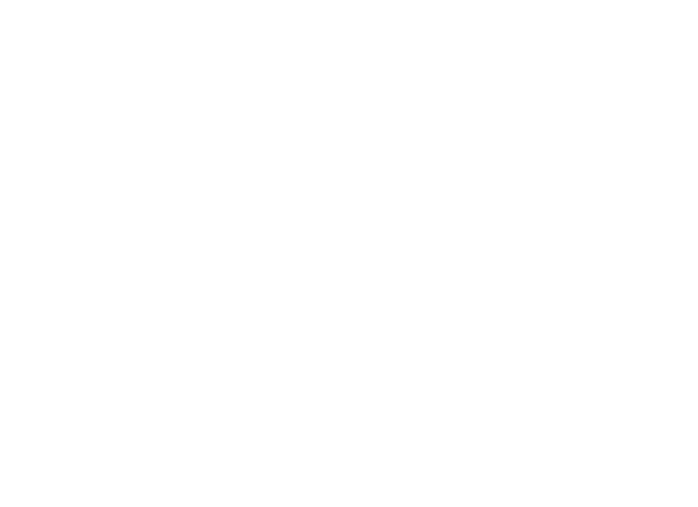
— Как у тебя появляются идеи, задумки?
По-разному. Сейчас я хочу немного отойти от давления фотографии, потому что я очень устал от нашего художественного мира и от того, как мы живем с этим нашим проклятьем в виде фотографии. Мы в России вообще не можем составить художественный дискурс, мы все начинаем друг с другом ругаться.
— Как ты относишься к кураторству? Это партнерство или давление одного над другим?
Хорошо. Отношения складываются всегда по-разному в зависимости от куратора. На одних выставках виден художественный мир художника, хотя куратор ему помогал, а на других лица художника не видно, а видно куратора. Сейчас самые интересные вещи — это те, где видно лицо куратора. Они получаются острее, мне кажется, у кураторов компоновать материал и передавать задумку получается лучше, чем у самих авторов. Всегда интереснее смотреть на послание, созданное из множества маленьких посланий.
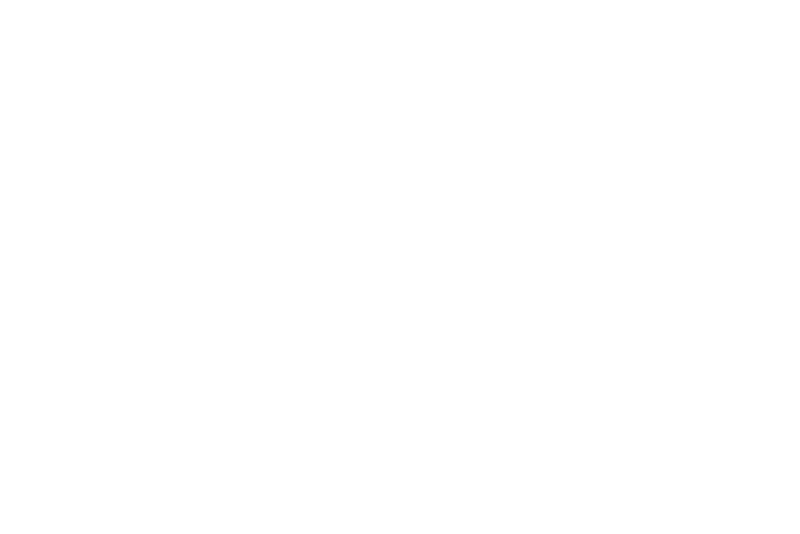
— Ты постоянно в работе или есть моменты вне её?
Мы все ведем регулярную внутреннюю работу, если мы её не ведем, мы умерли. Да, я все время работаю, есть большой технический пласт, который нужно преодолевать, а так как платят очень мало, особо гулять не на что, надо работать.
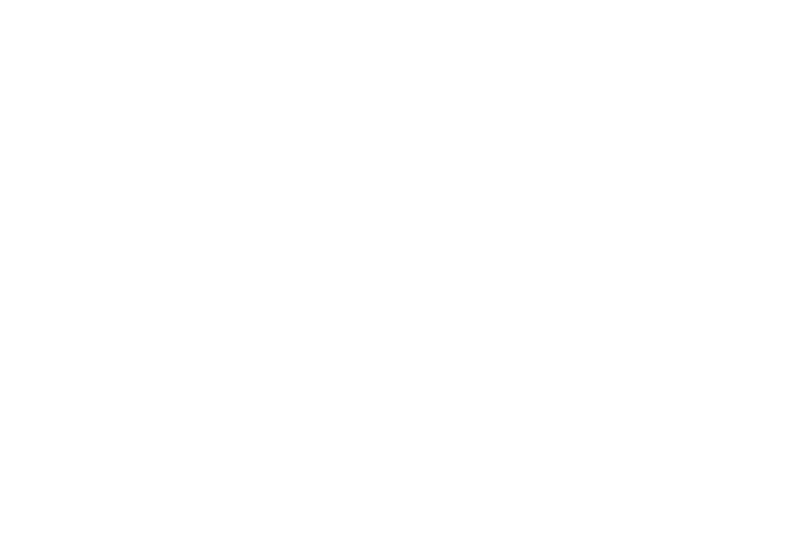
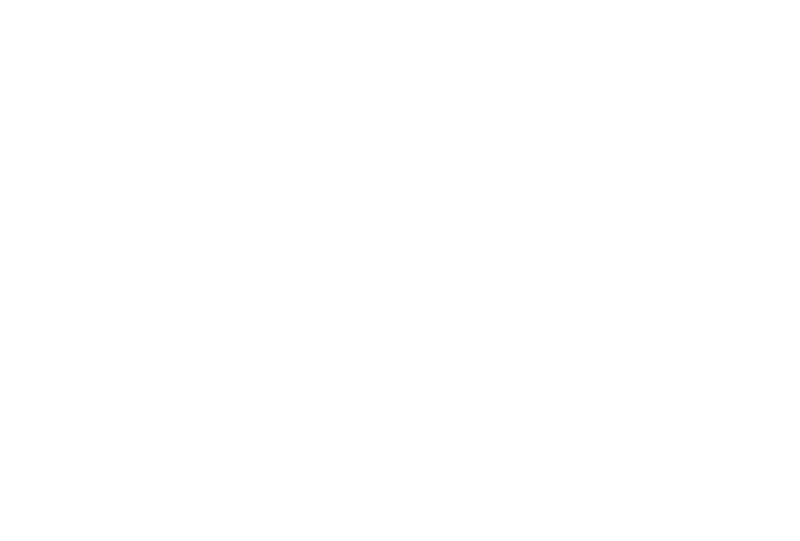
— А отдыхаешь как?
Особо никак. Раз в неделю могу вечером посмотреть сериал. Никуда не езжу, если только в командировку раз в год. Я уже 4 года никуда не ездил. А до этого ездил в Камбоджу фотографировать.
— Как тебе Камбоджа, она как-то на тебя повлияла?
Да! По возвращении из Камбоджи я восемь месяцев не фотографировал. Я просыпался, ел, слушал музыку, обедал и опять слушал музыку. Не работал, ничего не хотел, ничего не делал вообще.
— Потому что так переполнила или так опустошила?
Так опустошила. Но невозможно постоянно ныть о том, как ужасен мир, мне же не 14 лет, так что естественным путем постепенно вышел из этого состояния. Однажды я пошел за хлебом, увидел объявление и купил себе пианино за тысячу рублей, начал учиться на нем играть. Оказалось, что теорию музыки можно переложить вообще на любое искусство — скульптуру, фотографию, не важно какое. Гармония и дисгармония.
— Как описать фотографию с помощью музыкальной теории?
Ты складываешь серию фото и, например, видишь, что в определенной последовательности нужны определенные, высокие или низкие, ноты. Что-то облегчить, что-то утяжелить для гармонии. Подбираешь фотографии в определенном ключе, потому что требуется определенный мотив. Должно быть удобно слушать мелодию и удобно смотреть серию работ. Не зря говорят, что любое искусство стремится стать музыкой. Кстати, парфюмеры до сих пор используют архаичную французскую терминологию и делят все запахи на 7 нот. И ароматы складываются так же, как если бы они писали музыку.
— Значит, можно ту же фотографию разложить на запахи. Но все равно это всё о человеке. А тебе ближе человек в искусстве или искусство без человека?
Волнами. Иногда думаешь: «Господи, сколько же можно на эти рожи смотреть, надо пойти поснимать ботиночки». А есть работы без людей, думаешь: «как пусто, очень не хватает глаз». Вообще я довольно быстро устают от людей, мне комфортно одиночное существование. Но при этом я конечно же возвращаюсь в люди, чтоб совсем не одичать.
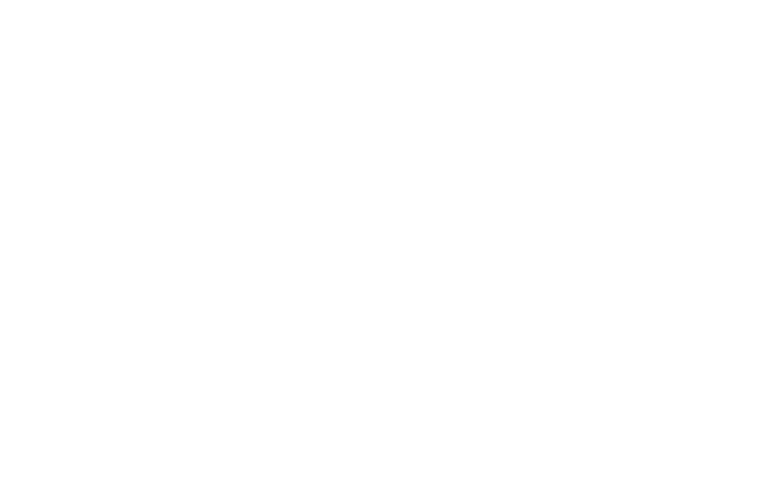
— Тебя всегда тянет фотографировать во время общения?
Вообще фотографировать практически не тянет, но считается, что фотографу никогда нельзя отворачиваться. Надо всегда нажимать на кнопку, даже когда не нравится. Связался с плохой компанией? Фотографируй или станешь её частью. Тот мой опыт длился три месяца и был безумием.
— А безумие часто происходит в твоей жизни? Можно ведь расчетливо подходить к работе, а можно действовать спонтанно.
У меня нет четкого разделения. Кто-то организовывает свою работу и целенаправленно действует, это зависит от того, какой серийностью он занимается, документальный он фотограф или нет. Если человек, например, человек хочет сделать серию натюрмортов, он будет её складывать не спонтанно. То есть зависит от того, чем ты занимаешься.
— А ты какой фотограф?
Сейчас уже можно говорить, что галерейный. Я мешаю документальные и недокументальные фотографии.
«Художники должны тыкать общество в больные места, выставлять их напоказ, поэтому что-то получается за гранью нравственного.»
— Кто тебе близок из великих людей прошлого, из произведений? Чем ты вдохновляешься?
Не могу сказать, что вдохновляюсь, но у меня есть группа любимых фотографов. Чтобы дать глазам отдохнуть, можно посмотреть на любимую работу, которая тебя когда-то зацепила. Вообще я считаю, что вдохновлять может всё. Вдохновение — это внутренний процесс, который не зависит от происходящего снаружи, он просто рождается. Вдохновение — это драйв. Фотография существует относительно недавно, еще не сложилось такое количество имен, чтобы мы себя могли сравнить. Но вообще мне нравится и меня вдохновляет русская салонная фотография начала прошлого века, которая была отвергнута и забылась после революции, об этом же говорят кураторы и критики.
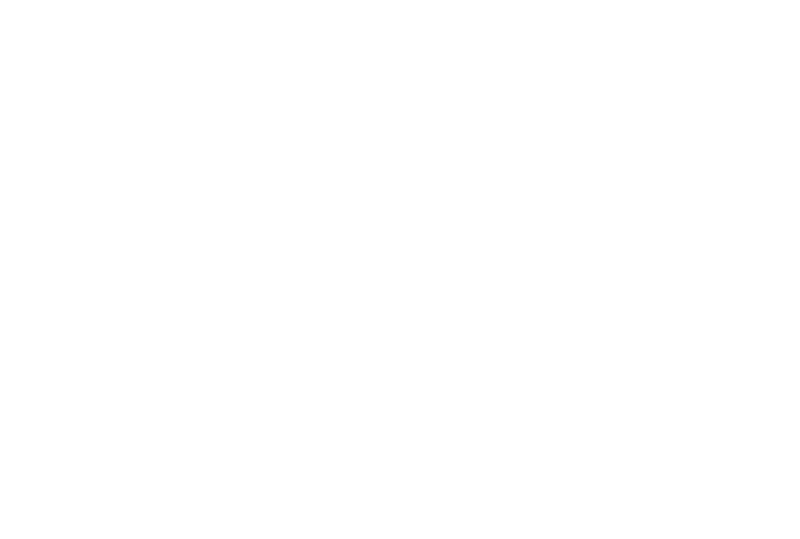
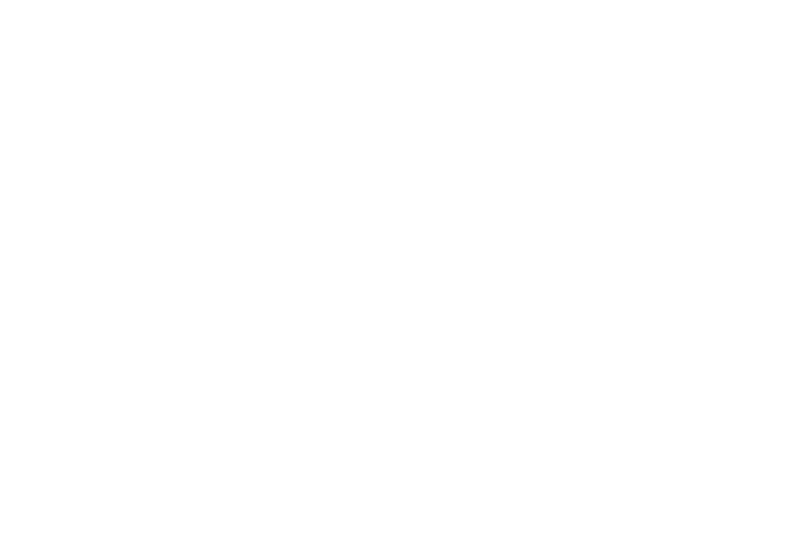
— Тебя трогает критика?
Я стараюсь это не слушать, мне кажется, это очень отвлекает от дела, и плохое, и хорошее. Раз в год, конечно, полезно почитать что-нибудь, проверить, другие люди в твоей работе видят то же самое, что и ты, или нет.
— Где была твоя последняя выставка? Где тебя можно увидеть?
Из последнего: я начал сотрудничать с галереей RuArts, и в сентябре или октябре мы делали у них выставку «Чернуха». Зимой был салон русской фотографии. Я достаточно отстраненно отношусь ко всей выставочной деятельности. Если мне говорят «Кир, дайте фотографии», я даю и не слежу, где они плавают.
— Что ты думаешь о самом понятии чернухи и насколько твои работы к нему относятся?
Мне понравилось, как сказал Кирилл Преображенский: «все это истеричный реализм», я теперь тоже пользуюсь этим словосочетанием. Вообще меня во множество категорий вписывали, и в нео-романтизм, и в готику, так и не вписали окончательно.
— По-моему, это говорит о твоей самобытности. Критики очень хотят повесить ярлычок.
Вешают, но эти ярлычки все время разные, тем более если говорить о выставочной деятельности. Сложно меня вписывать в выставки, не звучат мои темы с остальными, не подходят под общую концепцию. А от персональных я отказываюсь. Это отнимает очень много времени, которое хочется потратить на какую-то сиюминутную работу. К тому же я уже состою в двух галереях, галерея Меглинской и ФотоДепартамент, и искать ещё одну для того, чтобы сделать персональную выставку, не совсем корректно, а в этих галереях часто не проведешь. А с RuArts-ом мы работаем пока без контракта.
— Не пугает контрактная система?
Нет, не пугает, т. к. это очень дружественные мне кураторы, которым только в радость помочь, к тому же контракт — это вещь неплохая: ты предоставляешь эксклюзив, а в ответ получаешь защиту, ласку и любовь. Но вообще это зависит от галереи. Пару лет назад меня пригласили на какой-то фестиваль в Португалию, я почитал их контракт и увидел в нем сплошное рабство. Некоторые галереи вообще предлагают очень странные условия, например, вы не можете больше вообще никуда предоставить свои работы, кроме нас, или у вас не может быть публикаций в журналах, что в общем бред, потому что исключительное право никто не отменял.
— Ты много читаешь?
Раньше да, а сейчас в основном поэзию. Захожу на вавиолон.ру, сайт современной поэзии, и кликаю на все подряд.
— Она социальная или образная?
Нет, я не люблю социальную поэзию. Недавно я полюбил Линор Горалик, потом прочитал её всю и немножко разлюбил. Она выдает себя в мир полностью, что классно. И интересно наблюдать за метаморфозами, которые у неё происходили, но ранние её вещи мне нравились больше, мне кажется, она была острее.
— Раз ты за этим следишь, скажи, есть ли сейчас острые вещи или сейчас скорее период затишья?
Острые вещи у нас формируются телевидением. А художественный мир существует отдельно, он делается людьми, которые переживают вещи изнутри, перерабатывают и отражают их. Другое дело, что сейчас меньше возможностей выставлять, и к тому же далеко не всё выставишь. Поэтому мы многого не видим.
— Как дела с коммерческой составляющей?
Плохо, её практически не существует, к сожалению. Из арт-рынка утекли все средства, покупать особо нечего, русское покупают только русские и редко, за рубежом перестали покупать. За последние 5 лет интерес слегка повысился, а сейчас опять упал. Мне бы хотелось сходить на открытие какой-нибудь выставки за рубежом и посмотреть, там другие интонации в общении или все ругаются, как у нас.
— Почему у нас все ругаются?
Не знаю, мне тоже любопытно. По телевизору — из-за рейтинга. В фотографической тусовке немного по-другому, потому что она у нас пока что довольно бедна, по крайней мере в Москве. В Петербурге есть небезызвестный ФотоДепартамент, у них, на мой взгляд, все проходит довольно любопытно и без ругани.
— А фотографы любят объединяться или каждый сам за себя?
В основном каждый сам за себя. Странно, в Москве со всеми её возможностями почему-то не складываются фотографические кружки. Никто из современных фотохудожников не понимает, зачем существует союз художников и чем он занимается. Ты им раз в месяц платишь, а что он делает — не ясно. Кто-то говорит, что он предоставляет студии, но толку от этих студий, если студии сейчас стоят дороже, чем снять квартиру. Союз очень оторван от современного мира.
— Берут фотографии для публикаций?
Брали раньше. Зарубежные, кстати, берут, русских тоже печатают, но в одной Москве миллион фотографов, всех тянуть нельзя.
— Чем русская фотография отличается от нерусской?
Не знаю. Мы очень близки к европейской фотографии, спокойной, холодной, портрет, средний формат, мягкие цвета. Это хорошо продается. Ангелочки продаются лучше фото с войны, потому что на войну не хочется смотреть каждый день.
— Это если её воспринимать как элемент декора. А если как искусства — это не совсем для стеночек над кроватями, это для хранения как ценная вещь.
Да, коллекционирование у нас было развито, но сейчас умирает, потому что средств нет. По русской традиции все искусство существует благодаря меценатам. Мне кажется, что осталось три самых стойких мецената, и как они до сих пор существуют, я не знаю, удивительно.
— Как ты видишь будущее?
Сейчас вообще никак не вижу, не понимаю, что происходит вокруг, в какое время я живу, что мне делать, как размещать свои работы и свою порнографию.
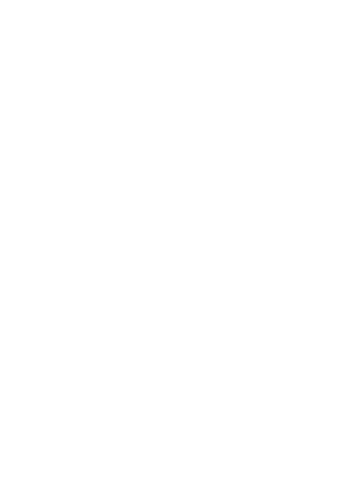
— Существует ли граница между порнографией и художественным произведением? Твоя серия на эту тему довольно художественна.
В моей серии есть очень четкая грань, там далеко до порнографии.
— Как ты относишься к нравственности?
Я считаю, можно показывать всё без исключения, и это всё надо смотреть. Художники должны тыкать общество в больные места, выставлять их напоказ, поэтому что-то получается за гранью нравственного. Есть твоя профессиональная этика, общей грани нет. Если твоя собственная совесть разрешает это делать, то делай.
— А твоя разрешает?
Не совсем. Я был уверен, что можно всё показывать, но некоторые работы я навсегда с компьютера удалил, поняв, что так уже нельзя. Зато порадовался, что есть ещё какая-то ступенька, на которую я не могу опуститься.
— Ты счастлив?
Не очень, как-то не радуюсь жизни. Если бы я знал, что нужно для радости, я бы уже сделал.
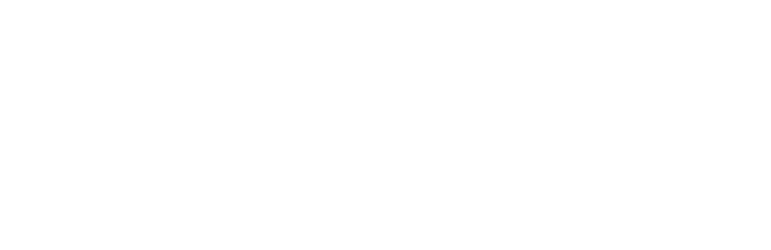
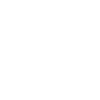
Другие интервью, которые могут быть Вам интересны:

